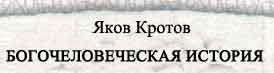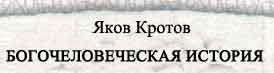"Путь": орган русской религиозной мысли под редакцией Н.А.Бердяева., при участии Б.П.Вышеславцева и Г.Г.Кульмана. Ближайшие сотрудники: Н.С.Арсеньев, С.С.Безобразов, прот. С.Булгаков, И.П.Демидов, Б.К.Зайцев, Л.А.Зандер, В.В.Зеньковский, А.В.Ельчанинов, П.К.Иванов, В.Н.Ильин, Л.П.Карсавин, А.В.Карташев, Н.О.Лосский, А.М.Ремизов, П.Н.Савицкий, П.П.Сувчинский, Кн. Г.Н.Трубецкой, Кн. Н.С.Трубецкой, Г.В.Флоровский, С.Л.Франк, прот. С.Четвериков. Страницы первого издания журнала указаны в прямых скобках, номер страницы предшествует тексту на ней. "Путь", №7. Апрель 1927 г.Из размышлений о теодицее
[50] Вот уже пол тысячелетия европейское христианское человечество ведет процесс с Богом. Внутри христианского мира скептицизм, агностицизм, неверие, атеизм суть симптомы внутреннего судебного процесса с Богом. Процесс этот есть мучение над проблемой теодицеи. Но если ведется судебный процесс, то должен быть тот, с кем этот процесс ведется. Абсолютный, онтологически продуманный атеизм невозможен. Атеизм есть борьба с Богом, богопротивление, анти-теизм, невозможность примириться с теистическим богословием. Лишь на поверхности кажется, что атеизм порожден умственными затруднениями, препятствующими вере в Бога, что он продукт философии или науки. Если всмотреться в глубину, то нужно будет признать, что никогда атеизм не мог быть порожден теоретико-познавательными сомнениями и обоснован логическими аргументами. Человек приходит к атеизму по практически-жизненным основаниям, атеизм есть явление порядка духовного и морального. Феномен атеизма означает или понижение духовности или ложное направление духовности. Люди серьезные и глубокие, задумывающиеся над смыслом жизни и ищущие истину, делаются иногда атеистами, но потому, что морально не могут разрешить проблему теодицеи, не могут примириться с теизмом. Подавляющий факт необъятного зла и неисчислимых страданий мира - единственное серьезное возражение против веры в Бога. Против Бога восставали не только люди утерявшие духовность. Но и люди с чуткой совестью иногда восставали против Бога во имя добра, во имя жажды справедливости. Всемогущий, всеблагий, всеведающий Бог не мог сотворить такого злого и полного страданиями мира. Несправедливо, безнравственно, хотелось бы сказать, безбожно сотворить такой мир, как наш, и обречь человека слабого, лишенного знания, на горе и неизбывное страдание. Человек, не лишенный сострадания и элементарного чувства справедливости, не согласился бы сотворить такой мир. Правда, говорят нам, что совершенное творение Божие, в котором все было "добро зело",
[51] было искажено свободой человека. Но ведь роковым качеством свободы человека наделил Творец, который отлично знал, как человек злоупотребит своей свободой и к каким горестным результатам она приведет. Отсюда родилось учение о предопределении в самых страшных своих формах. Кальвин готов был видеть прославление Бога в самом предопределении к вечной гибели и вечным адским мукам. Продолжим это рассуждение. Пусть зло и страдание - от свободы, но ведь свобода от Бога. Ведь Бог в своем замысле о мире и человеке знал все последствия свободы твари, все зло и страдание, вплоть до вечных адских мук, И рука Творца не дрогнула, не остановилась в своем творческом деле перед до конца открывшейся Ему перспективой временных и вечных адских мучений, порождаемых Его замыслом. В замысел Божий о миротворении вечные адские муки входили в силу Божьего всевеления. Но самый средний человек остановился бы перед творческим делом, которое грозило бы вечными адскими муками даже одному всего существу. Такого рода простое и, казалось бы, вполне разумное размышление говорит о каком-то странном человеческом извращении идеи Бога. Говорит оно также о немощи и бесплодии рациональной метафизики, трактующей о последних тайнах бытия. Бытие есть жизнь, жизнь есть мистерия, а не метафизическая категория. Человек XIX и XX века мало оригинален в своих протестах против Творца мира во имя добра, во имя сострадания, по мотивам нереальным. Маркион с большим моральным пафосом и благородством восставал против Демиурга, против творца мира, как злого бога. Бог ветхого завета, раскрывшийся Израилю, был для него не Отец Иисуса Христа, Спасителя мира, он есть злой Демиург, создатель зла и горя мира. Иисус Христос - сын неведомого Бога, избавитель от зла творения. Сомнение Маркиона, связанное с проблемой теодицеи, присутствует во всех сомнениях людей нового времени, но в большинстве случаев в более поверхностной форме. Гарнак в своей прекрасной книге о Маркионе говорит, что Маркион должен быть особенно близок русской религиозной мысли. Глубокие сомнения в качествах миротворения были у всех гностиков, у манихеев. Злой мир должен был быть сотворен злым богом. Это не ведет еще к атеизму, но ведет к метафизическому дуализму. Есть Бог добра, Бог правды и справедливости, Бог любви, Бог высшей духовности, Он открылся в Христе-Спасителе, но Бог этот не есть творец мира, ибо мир полон зла и страдания. Ветхозаветный, библейский аспект Божества, как любви и спасения, кажется приемлемым. Проблема, поставленная Маркионом и некоторыми гностиками, бездонно глубока. Гностики не умели ответить на поставленную проблему и запутались, пытаясь увидеть источник зла в материи. Но на проблему эту не было дано вполне удовлетворительного ответа и церковными противниками гностиков, не
[52] смотря на их коренную правоту. Этим объясняется возможность столь широкого отпадения от христианства европейского человечества. Человеческая совесть не может вынести бесчеловечных, не духовных и не моральных свойств, почти зверских свойств, приписываемых Богу, Творцу мира. Только долгий религиозный ужас, трансцендентный страх могут заглушить воспрошения совести и сознания. Но время религиозного террора проходит. Когда-то можно было удерживать в Церкви запугиваниями вечными адскими муками. Это запугивание было целесообразной педагогической мерой, оно воспитывало варварское человечество. Но теперь запугивание вечными адскими муками мешает людям войти в Церковь. Методы педагогики меняются, они не могут всегда оставаться одними и теми же. Сейчас против иных сторон христианской веры восстают качества человека, выработанные самим христианством же, - христианское смягчение человеческой души. христианская чуткая совесть. * * * Мое размышление о теодицее - не богословское, а философское или религиозно-философское размышление. Оно хочет принести христианской вере вольный дар познания. Сама постановка проблемы теодицеи есть спор с Богом. Но кто ты, человек, чтобы спорить с Богом? Этот вопрос любит Лютер ставить Эразму в своем с ним споре о свободе и рабстве воли. Может ли человек задаваться вопросом об оправдании Бога перед лицом зла и страдания мира? Моя вера в Бога и в положительный смысл мира предполагает, что этот вопрос внутренне решен. Я христианин и потому верю, что проблема теодицеи разрешена явлением Христа и совершенным Им делом искупления и спасения. Но я не раб, я свободный человек, свободный дух, я призван любить Бога и всем разумением своим, и в размышлении и познании вижу знак моего богоподобия. Вера моя через горнило сомнений прошла. Человек может спорить с Богом, потому что Бог ждет и требует свободы человека, свободной его любви, свободного его познания. Автомат не нужен и не интересен Богу. Можно изначально утверждать агностицизм и отклонять всякое размышление о теодицее, как недопустимое в принципе и даже греховное. Так и думают многие исключительно традиционно и авторитетно настроенные христиане. Но тогда последовательно нужно отклонить и все рациональные богословские учения., всегда включающие в себе отделы теодицеи, тогда нужно признать лишенными смысла и все традиционные богословские теории о миротворении и об отношении между Творцом и творением. Всякое углубленное размышление, всякое углубленное познание вещей божественных должно привести к тайне. Бог есть необъяснимая тайна. И это есть самое глубокое определение Бога. Апофатическое богословие так и утверждает и утверждение его глубже всяких утверждений богословия катафатического. Великие христиан-
[53] ские мистики и глубочайшие христианские мыслители всегда это думали - Дионисий Ареопагит, Экхард, Николай Кузанский и мн. др. Плотин был источником этих мыслей. Бога нельзя назвать даже бытием, ибо Он есть сверх-бытие и Он есть ничто. Но путь к последней Божественной Тайне лежит через познание, а не через изначальный агностицизм, не через запрет познания. Существует знание и незнании, docta ignoranta, как говорил Николай Кузанский. Апофатическое богословие есть тоже богопознание, а не агностицизм. Границы богопознания определяются из самого познания и через установку этих границ расширяется, а не сужается познание. Есть бесконечное познавательное движение к последней Тайне. И признание Тайны, непроницаемой ни для какого понятия, благоговейное почитание Тайны есть качество самого познания, его углубление и возвышение. Апофатическое богословие и мистичнее и гностичнее богословия катафатического, которое всегда в себе заключает большую дозу рационализма. И когда школьные курсы догматики, подавленные рационализмом катафатического богословствования, испытывают затруднение в разрешении проблемы теодицеи, они любят ссылаться на Тайну и призывать к послушанию Тайне. Но они делают все это слишком поздно, построив уже много рациональных теорий, или слишком рано, поспешно поставив запреты агностицизма. Боязнь гностицизма имела определяющее значение для катафатического богословия. Благоговение перед Тайной не делает человека рабом и идолопоклонником, наоборот, оно то и делает человека духовно свободным. Рабом и идолопоклонником делают человека многие положительные доктрины о Боге, принижающие, искажающие и умаляющие бесконечную и таинственную природу Божества. По истине есть отношение к Богу, которое есть последняя форма идолопоклонства в мире. Не только к ложным богам, но и к истинному Богу возможно идолопоклонническое отношение. Можно сущего Бога превратить для себя в идола и воздавать Ему поклонение, которое уместно лишь по отношению к идолам. Об этом можно много прочесть у ветхозаветных пророков. Идолопоклонничество и создает самые большие затруднения для проблемы теодицеи. Рабье поклонение Богу, как абсолютной силе и власти, подобной власти деспотов древнего Востока, делает теодицею невозможной. Небесный империализм и цезаризм ставит самые непреодолимые затруднения для разрешения мучающей нас проблемы. Примером противоречивых притязаний богословского рационализма может служить последняя эсхатологическая тайна. Вечные адские муки предлагают принять, склонившись перед неисповедимой Тайной, из послушания Тайне. Но это значит, что нельзя строить учения о вечных адских муках, нельзя рационализировать Тайну, нельзя оправдывать вечных адских мук божественной справедливостью, предопределением и т.п. Когда ставится проблема теодицеи, проблема о Боге и Его оправдании перед лицом зла и страдания мира, то прежде всего уместно спросить: существует ли хоть
[54] какая-либо соизмеримость и подобие между человеком и Богом? Казалось бы, что для христианина такой вопрос неуместен - христианство учит, что человек есть образ и подобие Божие, что Сын Божий почеловечился. Но в истории христианства эта истина всегда была подавлена другими истинами. Между тем как с поставленным вопросом связан основоположный религиозный процесс в мире. История религий учит нас, что очеловечение Бога, имеющее своей обратной стороной одухотворение человека, есть центральный феномен религиозного откровения. Преодоление идеи бесчеловечного бога, имеющей своей обратной стороной звероподобие человека, есть основное завоевание религиозного сознания и религиозного развития в мире. Огромное значение Греции не только в истории культуры, но и в религиозной истории мира заложено в греческом антропоморфизме: человеческий образ выделялся из образа мира звериного, с которым он смешан был на Востоке, и боги созерцались человекоподобными. Правда, человекоподобие это еще было недостаточно очищенное и одухотворенное и заключало в себе тот совершенно иррациональный элемент, который так смущал исследователей мифологии (М. Мюллер пытался выйти из затруднения филологической теорией происхождения мифов из языка). Но антропоморфность богов была огромным шагом вперед в религиозном сознании. Греция создала великий арийский миф о Прометее. Не Зевс, а Прометей любит человечество, для него жертвует собой и переносит страшные мучения во имя человека, он основатель человеческой культуры. Некоторые западные учители Церкви даже думали, что миф о Прометее есть языческое извращение идеи творения мира истинным Богом. Различие между Зевсом и Прометеем можно было бы сопоставить с различием в сознании Марки она между Демиургом - творцом мира и Христом-Спасителем мира. Процесс очеловечения и одухотворения идеи Бога нашел самое сильное свое выражение в сознании пророческом. Процесс очеловечения идеи Бога завершается в христианском откровении, в явлении Богочеловека, в религии Богочеловечества. Невозможно построить теодицею, если исходить от Бога, и невозможно ее построить, если исходить от человека. Смысл мира непонятен ни из отвлеченной идеи Бога, ни из отвлеченной идеи человека. Если разделить и разорвать Бога и человека, то все погружается во тьму и вызывает ужас. Только в соединении Божественной природы и человеческой природы раскрывается смысл мира и свет озаряет жизнь. И богословствовать нужно начинать не от Бога и не от человека, а от Богочеловека, и теодицею можно строить лишь от Богочеловека. Если бы не было Богочеловека, не было явлено совершенное очеловечение Бога и совершенное обожение человека. Ибо по истине теодицея и антроподицея - две стороны одного и того же. Христос-Богочеловек и есть единственная возможная теодицея и антроподицея. Голгоф-
[55] ская жертва Христа, совершенная Богом и человеком, и есть теодицея не в размышлении, а в жизни, в действии. Агнец заклан от сотворения мира. Божия жертва изначально вошла в план миротворения. Бог сам участвует в трагедии мира, в страданиях мира, несет на себе страдания человеческие. Бог отвлеченного монотеизма не может быть оправдан. Между тем как отвлеченный монотеизм более магометанский, чем христианский, вошел в христианское богословие и исказил его. Отвлеченный монотеизм, небесный монархизм заслонил живую Тайну Триединого Бога, Св. Троицу, которая есть Божественная Любовь. Только для отвлеченного монотеизма, для небесного монархизма, отражающего земное царство кесаря, Бог неподвижен и самодоволен, Бог властно требует исполнения своей формальной воли и карает за ее нарушение. Но Отец, открывающийся через Сына и в Св. Духе, не есть Бог отвлеченного монотеизма. Без Сына Отец остается чужим, далеким и страшным, без Духа Св. Он не действует в нас и мы не входим в Его жизнь. Атеизм прав в отношении к отвлеченному монотеизму, к небесному монархизму. Атеизм опровергается лишь откровением Св. Троицы, как Божественной Любви. Статический теизм, вычеканивший идею совершенно бездвижного и бестрагичного Творца, не нуждающегося в творении и не разделяющего его судьбы, есть порождение эллинских категорий мысли, наложенных на откровение, - элеатства, аристотелизма. Не таков Бог Библии, Бог Авраама, Исаака и Иакова, не таков Бог, раскрывшийся через Сына в Новом Завете. Священное писание раскрывает нам трагедию Бога, приоткрывает нам его внутреннюю трагическую жизнь. Крестная мука единородного Сына Божьего есть страдание в недрах Св. Троицы. И признание этого мистического факта не означает непременно патрепассионизма. Это и есть единственный возможный путь теодицеи, не рабьей теодицеи. В недрах самой Божественной Троичности есть страдание от зла и тьмы, есть несовершенство и ущербность Божества, наоборот, оно есть признак Его совершенства. Нельзя Бога мыслить подобным камню. Бог не страдающий был бы несовершенными ущербным Богом. Он бы себе оставил блаженство, а творению страдание. Любовь предполагает жертву и страдание. Но Божественная Троичность есть бесконечная Любовь. Лишь в любви приоткрывается внутренняя, сокровенная, эзотерическая жизнь Божества. Лишь через любовь возможно для нас не только акафетичесое, но и катафетическое богословие. Между тем как катафетическое богословие строилось не на жертвенной любви, как сокровенной жизни Божества, а исключительно на мощи, славе, справедливости, суде и т.п., т.е. на экзоторическом раскрытии Божества в греховной природе человека. Он мог раскрыться лишь через Сына Божьего, через Богочеловека. Для этого нужен был кенезис, уничижение, умаление, истощение Божества.
[56] * * * В богопознании и богопонимании роковое значение имела идеология. Особенно это явственно в системе Св. Фомы Аквината. Бог познается по аналогии с природным миром, с природными предметами, Он есть как бы высочайший природный предмет, наделенный всеми качествами в превосходной степени. Бог есть "сверхестественное", но "сверхестественное" оказывается лишь высочайшей степенью "естественного" ("естественное" занимает больше места, чем "сверх"). Аналогия Бога с силой природного мира есть не христианская аналогия. На почве этой создается богословский натурализм, который есть наследие языческого богословствования. Также Церковь понимается по аналогии с государством, с царством Кесаря. Но Бог может познаваться лишь по аналогии с духовной жизнью, раскрывающейся в глубине человека, которая принципиально отличается от объектированного природного мира. Бог есть Дух, а не природа, Жизнь, а не застывшая субстанция, Любовь, а не сила, подобная силам природы. Акафатическое богословие и утверждает невозможность перенесения понятий, выработанных в отношении к природному миру, на Бога. К Богу неприменимо даже понятие бытия. Лишь в жизни духа раскрывается аналогия с жизнью Бога. Поэтому натуралистическое понимание миротворения оскорбительно и для Творца и для творения и вызывает болезненную постановку проблемы теодицеи. Миротворение и отношение между Творцом и творением можно постигать лишь духовно, а не натуралистически, т.е. христиански-новозаветно, а не язычески-ветхозаветно. Натуралистическое и рационалистическое богословие пришло к пониманию Бога, миротворения и смысла мирового процесса, которое и довело до отпадения от христианства и до процесса против Бога. Бог абсолютно бездвижный, ни в чем не нуждающийся, самодовольный, сотворил мир по произволу, без нужды, для самопрославления, наделил слабую и ничтожную тварь свободой, установил закон своей воли, нарушение которого влечет за собой роковые последствия во времени и в вечности. Человек дурно воспользовался своей свободой, нарушил волю Бога, пал и последствием его падения были муки и страдания мировой жизни. Бог, который по всеведению своему мог все предвидеть, жестоко карает за нарушение своей воли, не только муками во времени, но и муками в вечности. Бог возбуждает процесс против оскорбившего его человека, требует выкупа. Выкупом, угашающим Божий гнев, является жертва, принесенная Сыном Божиим. Бог любит страдания людей, они удовлетворяют Его чувству справедливости и ослабляют Его справедливый гнев. Спасение есть оправдание и умилостивление. За вину во времени, в краткий миг жизни от рождения до смерти, ждет кара в вечности. Вечные адские муки грешников, предвиденные Богом при миротворении, и потому предопределенные им,
[57] доставляют Богу блаженство от торжества справедливости. Фома Аквинат предлагает даже праведнику в раю наслаждаться муками грешников в аду, наслаждаться торжеством справедливости. Эта концепция натуралистически-рационалистического богословия, которую я излагаю в крайней форме, но которая во всех своих частях присутствует в богословских системах, особенно католических, вызывает протест совести и разума. В ответ на этот протест предлагают склониться перед Тайной, перед неисповедимостью Божиих судеб. Но в этой концепции нет тайны, в ней все рационализовано, все экзотерично, все построено по аналогии с жизнью природного мира, с царством мира сего, с царством кесаря. Я готов изначально склониться перед Тайной, перед неисповедимостью Божиих судеб, но без концепции рационализирующей Тайну и принижающей ее к самым низинам мира сего. Эта концепция оскорбительна для Бога, в ней есть элемент кощунства и богохульства. Она наводит на мысль о существовании злого, бесчеловечного бога. Не таков Бог, раскрывшийся через Сына, Бог Любви. "Ибо та возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него". И невозможно не принять Любви, не принять спасения. Как могла родиться возмущающая богословская концепция из новозаветного откровения? Поистине Бог без человека, без Богочеловека, без Сына и без Св. Духа не есть Бог, а есть диавол, сатана, Демиург гностиков, от него пришел освободить Спаситель мира. Без Бога человек есть зверь, но без человека Бог есть Левиафан. В этом тайна Богочеловечества, тайна Христа и христианства. Богу не позволяют приписывать страдание, трагедию, тоску по своему другому, но очень охотно приписывают самые дурные человеческие аффекты - гнев, месть, обидчивость, жестокость и пр. Богу приписывают желание унизить сотворенного им человека и держать его в страхе и терроре. Христианская теодицея возможна лишь через свободу человека, свободу твари. Но откуда свобода и что значит свобода? Если человек создан по природе свободным, если свобода полагается творческим актом Бога, то затруднение непреодолимо. Тогда борющийся с Богом скажет, что вопрос об ответственности лишь отодвигается. Человеку навязана свобода по тварной его природе. Но свобода не может быть связана с природой, с субстанцией. Все, что вкоренено в природу, - детерминировано, не свободно. Свобода вкоренена в духе, а не в природе, и упирается она в бездну, в ничто. Свобода не есть бытие, свобода вне бытия и предшествует бытию. Бог сотворил мир не из собственной природы и не из первоматерии, как думала античная мысль, а из ничто. Ничто и есть свобода. Это и значит, что Бог сотворил мир из свободы. Иначе это выражают так: Бог
[58] сотворил мир свободно и свободным. Но свобода, порождающая зло, восходит к ничто, которое есть чистая возможность. Мы должны признать, что эта свобода совсем не есть природа, сотворенная Богом, ибо в этом случае она была бы детерминирована. Богом же природа могла бы быть детерминирована исключительно к добру. Свобода, способная породить зло, и есть чистая возможность, заключенная в ничто, в бездне, к которой неприменима категория бытия. Вне Бога нет никакого бытия, но вне Бога есть ничто, из которого творится мир. Это и есть свобода, предшествующая миротворению. Мыслить же об этой тайне можно лишь антиномически. В истории религиозной мысли довольно остро ставится вопрос о том, свободен ли Бог, связан ли Он добром, есть ли добро лишь то, чего хочет Бог, или Бог может хотеть лишь того, что есть добро. Дунс Скот, как известно, сделал свою специальность из защиты свободы Бога и решительно утверждал, что добро и есть то, чего хочет Бог, что Бог не связан добром. Еще радикальнее это утверждал Оккам. Точка зрения Дунса Скота противоположна традиции платонизма, которая утверждает, что Бог связан добром и не может хотеть того, что не есть добро. Думается, что вопрос неправильно поставлен. Нельзя сказать, что добро есть то, чего захочет Бог и что Бог свободен захотеть противоположного добру. Невозможно разделить Бога и добро. Добро не есть определяющее Бога начало, но Бог есть Добро, как Он есть Истина и Красота. И после этого, согласно методу апофатического богословия, нужно сказать, что Бог есть сверх-добро и что понятие добра также неприменимо к Богу, как все понятия. Могут сказать: если вы судите Бога с точки зрения добра и отвергаете Бога, который не соответствует вашей идее добра, то вы человека ставите выше Бога. У Бога другая мораль, чем у человека, и то, что с человеческой точки зрения есть зло, с Божеской точки зрения может быть добром. Это рассуждение основано на разделении Божеского и человеческого. Если во Христе-Богочеловеке открылось, что Бог есть Любовь, то я не только с человеческой, но и с Божеской точки зрения не могу допустить, что Бог есть ненависть и злоба. Что Бог есть Любовь, это открыл мне сам Бог. Добро, которым я сужу Бога, открылось мне Богом. Я сужу не Бога, а ложную человеческую идею Бога. Суд над злым богом есть суд над человеческим искажением образа Бога. И теодицея есть в сущности оправдание Бога от клеветы, которая на Него возводится человеческими измышлениями. Идея злого Бога, которая мучила Маркиона и гностиков, в ХIХ веке приняла иные формы. Метафизический пессимизм Шопенгауэра и Гартмана есть транскрипция той же идеи, которая раньше выражалась в утверждении, что Демиург - творец мира есть злой бог. Но он заменился бессознательной, темной мировой волей, которая в порыве безумия сотворила горестное битые. И нельзя
[59] отрицать, что в пессимизме есть своя глубина и даже своя частичная истина. И материалистическая метафизика, несмотря на ее легкомысленный лптимистический налет, есть одна из крайних трансформаций идеи злого бога, творящего мир, лишенный смысла, абсолютно случайный, равнодушный к добру и злу. В известном смысле легче принять материализм, чем Бога, который не есть Любовь, который сам не страдает, но заставляет страдать тварь, который перживает обиду и способен к мести. По крайней мере, если прав материализм, то хоть муки будут временными, но не вечными. * * * Для христианской теодицеи существенно то, что обратной ее стороной является антроподицея. Христианское сознание и мышление не смеет уже разрывать и разделять Бога и человека, для нет уже Бога без человека. Христианскому сознанию открывается Бог, который хочет, чтобы человек был, который нуждается в человеке, как в своем другом. Между тем как и в середине богословской христианской мысли и на вершинах христианской мистики и святости остается неясным, как быть с человеком, с чисто человеческим, должна ли утверждаться человеческая природа? Нельзя отрицать, что в господствующих богословских доктринах человеческая природа принижается и подавляется, - не греховность только человеческой природы, а сама человеческая природа. Слишком часто в унижении твари видят пафос религиозной жизни. Утверждается метафизическое ничтожество твари. В более углубленной, мистической форме ничтожество твари выражается в понимании обожения, как умолкания и замирания человеческого, чтобы дать место Богу. И остается непонятным, зачем Творец создал человека, если человек должен угаснуть и должен оставаться один Бог? Тогда миротворение лишается всякого смысла. Бог есть вечно сущий, Он вечно пребывает в полноте и самодовлении. Зачем творение, зачем человек, зачем трагедия мира? Если творчество человека и мира не означает никакого движения в Боге, если человек и мир ни для чего не нужны Богу, если Бог хочет оставаться в себе и требует от сотворенного человека и мира, чтобы они угасли, уничтожились в Боге, перестали существовать, то все лишается всякого смысла. Скажут, что это неисповедимая Тайна и что нечестиво посягать на эту Тайну. Да, Тайна и нужно благоговеть перед Тайной. Но благоговеть нужно перед Тайной, а не перед построенной доктриной, которая сама посягает на Тайну. Я не Тайну критикую, я критикую рациональную доктрину. Непонятно также, почему творение великого Творца может быть ничтожным, жалким творением? Картина великого художника есть великое творение, отпечатлевающее его творческий гений. Тем более великим должно быть творение Творца. Но обожение (теозис) совсем не есть исчезновение человека, обожение есть
[60] совершенное преображение человека в Боге, окончательное его рождение в Боге. Само миротворение есть Божья жертва и ответом на Божью жертву должна быть жертва человека и мира. Тайна переводим лишь на язык жертвенной любви. Учение великих мистиков о преодолении тварности, об умирании человеческой природы, о жизни в Боге, о теозисе совсем не поддается рационализации и совсем невыразимо в категориях богословской мысли. многие мистики учат и о том, что, когда кончается человек, тогда кончается и Бог, исчезает человек, когда Бог исчезает. Бог рождается, когда человек рождается. Любящий не может жить без любимого. Это всегда беспокоило богословов. Но мистики действительно входят в жизнь Тайны, богословы же остаются на поверхности, вне Тайны и ссылаются на нее лишь тогда, когда испытывают затруднение. По истине должно быть произведено очищение наших богословских и метафизических идей о Боге, очищение Бога от недостойных и принижающих Его свойств, которые наводят на мысль о существовании злого бога, создавшего человека и мир, чтобы их унизить и заставить страдать, чтобы показать свою силу и власть. Дурные, злые, недостойные свойства Бога есть лишь порождение и отображение нашего греха, нашей тьмы. Страх перед Богом есть страх перед самим собой и перед диаволом. Теодицея возможна лишь для богословия духовного, а не натуралистического, для богословия, которое будет мыслить о Боге не по аналогии с предметами природного мира и с явлениями в царстве кесаря, а по откровениям духовного мира, духовного опыта, духовного пути. В духе все по иному открывается, чем в объективизованной природе. В духе открывается "ничто" с заключенной в нем еще темной свободой и потенцией, открывается зло природного мира, обличается грех, но нет злого бога, есть лишь Бог любви и свободы, Бог благодати. В духе открывается трагедия самого Бога, жертва Бога, страдания Бога, страсти Господни, тоска Бога по своему другому, по другу, по человеку и по миру, бесконечность Божьей любви и жертвы. В объективированной природе, в натуралистическом богословии Бог превращается в застывший предмет, в бездвижную субстанцию и жизнь его мыслится по образам жизни в царстве кесаря. На этом пути и была создана система небесного монархизма с ее терроризующими методами управления. Менее всего духовное богословие, возвышающееся над аналогиями между Богом и природным миром и царством кесаря, означает оптимистическое и розовое христианство. Наоборот, для духовного богословия и для его теодицеи христианство раскрывается, как религия трагическая. Религия любви и свободы есть религия трагическая. Любовь есть жертва, свобода есть страдание. Но жертва и страдание перестают быть рабьими, унизительными и бессмысленными. Трагедия переносится на самую божественную жизнь, на самою первичную мистерию жизни. Религиозное рабство, которое есть лишь отображение земного рабства в царстве кесаря, не есть трагедия. В трагедии действуют свободные, а не рабы. Трагедия
[61] и есть порождение свободы. Рабство не знает еще трагедии. Свободой очень злоупотребляли в традиционном богословии, пытавшемся разрешить проблему теодицеи, как злоупотребляли свободой в уголовном праве. Свободой дорожили для обоснования кары и наказания, но в этом утилитаризме, небесном и земном нет подлинного достоинства свободы духа.*) Христианская теодицея явлена в жизни и опыте, она заключена в священном писании, она показана на вершинах христианской мистики и святости. Но в познании, в мышлении не было еще построено сколько-нибудь удовлетворительной христианской теодицеи и было построено много оскорбительного и для достоинства Бога и достоинства человека, много было ложных посягательств на Божественную Тайну. Божественная Тайна менее всего раскрывается по аналогии с судебными делами мира сего и с действиями физических сил природы. Лишь в глубинах духа, в духовной жизни, в мистерии первожизни, в таинстве можно приобщаться, прикасаться к Тайне. Лишь через Любовь, через жертву, через свободу, через переживание благодати может быть дан опыт о Тайне. Никакие рациональные понятия тут невозможны. Бог есть Дух, есть Жизнь, есть Любовь, есть Жертва, есть Свобода, Бог есть Св. Троица. Только тут отрицательное богословие может перейти в положительное богословие. Бог как страшная Сила, Власть, Царь, Судья, Бог положительного богословия, оперирующего аналогиями с миром природным и кесаревым, есть экзотерический образ, преломленный в человеческом грехе и тьме. Священное писание дает оба аспекта Бога, но Священное Писание говорит не только об экзотерическом откровении Бога, но и об экзотерическом откровении Бога, о преломлении образа Божьего в человеческой тьме. Дело человеческого духа разобраться и произвести очищение, которое всегда есть самоочищение, одухотворение собственной природы, врастание в духовный мир и его тайны. Бог есть также Абсолютная Сила, но сила Смысла, сила Истины, сила Духа, Власть Духа, а не природы, Правда и Добро, как Сила. Бог требует себе подчинения. Когда это сказано, то сказано не о Боге, а о грехе и тьме человека, о его недуховности, сказано о природным мире. Бог ждет свободной любви. Когда это сказано, то сказано о самом Боге, сказано о духовном мире и о том, что в нем совершается. Религиозная, христианская жизнь есть взаимопроникновение, а иногда и смещение двух порядков, природного и духовного, есть действия Божьей энергии в греховном природном мире. В это всегда нужно зорко всматриваться и духовно размышлять об этом. Тогда многое откроется в ином свете. Не старая вечная истина будет отменена, а будет она просветлена, в новом свете увидена. Духовное богословие есть богословие сим- *) Часто уголовные и утилитарные аргументы в защиту свободы приводит Митрополит Макарий в своих "Православно-догматическом богословии", столь типичным для школьной доктрины.
[62] символическое, есть истинная теософия в старом благородном смысле слова. Судебный процесс человека против Бога прекратится лишь тогда, когда будет преодолена ложная и унизительная идея судебного процесса Бога против человека, когда перестанут судиться и начнут жить подлинной, духовной жизнью. Тогда только выяснится, что есть подлинное богопротивление. Христианское откровение есть благая весть о спасении и о Царстве Божием. И безумие не принять этой благой вести на том основании, что мы погибаем и мучаемся, что в нас и вокруг нас царит зло и страдание. Христианский ренессанс может лишь быть духовным ренессансом. Чистый духовный инстинкт, свободный от ложных рационалистических и натуралистических идей, должен вести к принятию благой вести об избавлении и должен направить все силы духа к осуществлению Царства Божьего. НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ |