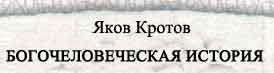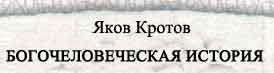Журнал "Путь", издававшийся в Париже Николаем Бердяевым в 1925-1940 гг. НА ПРАВАХ РАЗГОВОРАШаховской Д. А., кн. На правах разговора // Путь.— 1926.— № 5 (октябрь-ноябрь).— С. 115—118.
Об апокалиптичности писать трудно. И не потому только, что Откровение Иоанна Богослова хранится Церковью за семью печатями, что оно было и есть лишь объект частного религиозного любопытства. Писать о конце человечества трудно, потому что познать Конец можно только в конце земного познавания Бога; Не случайно, книга Откровения — омега святых книг, альфа которых — Бытие. Апокалипсис — последнее откровение последнего человеческого бытия; И, как пределов жизни нельзя осознать, не осознавши самой жизни, так последнее откровение непостижимо без постижения всех святых откровений.
А кто может быть уверен, что познал все откровения?... Последняя книга Иоанна Богослова — камень смирения, — непознаваемый, хотя и земной камень, на котором смирялось и смиряется святое богословие. Не случайно, люди толковавшие Апокалипсис в громадном большинстве своем, были еретиками. Средневековые ли «арнольдисты», российские ли мещане-начетчики, — все это люди вполне кустарного подхода, явно беспомощное умствование пред непознаваемым. Действенное раскрытие Апокалипсиса совершалось до сих пор руками неистинными, т. е. не церковными. И потому писать об Апокалипсисе нельзя. О нем можно только говорить. А, если и писать, то — «на правах разговора». Сквозь последнее право, и только сквозь него, можно рассматривать все новейшие апокалиптические чувствования, — вообще весь ввод Апокалипсиса в современную философско-беллетристическую литературу. Как-то чувствуется сейчас, что наиболее известный в нашей русской литературе разговор об Апокалипсисе Владимира Соловьева, есть некоторое увлечение наименьшим сопротивлением парадоксальности. Владимир Соловьев отобразил очень остро свою эпоху, эпоху переоценки Культуры и Человечества («Культуры» и «Человечества»). Рационально отталкиваясь от антихристовой культурности, Соловьев, несомненно, эстетически подтверждал ее, любуясь ее исторической реальностью. Только два-три десятилетия отделяют нас от последнего Соловьева. Но как переменилось время, как легче теперь говорить об Апокалиптичности, легче разговаривать о «Трех разговорах». Думается, что оставаясь в Церкви, и тем самым уже как-то строя ее — нельзя переоценивать гуманности антихриста. Можно ее утверждать, но нельзя переоценивать. Ни гуманности антихриста, ни ума его, ни учености. Соловьевское решение первой проблемы апокалипсиса: о лике антихриста, об узнавании его, — перестает, как-то, удовлетворять. Ложная культура, со своей гуманностью и прогрессом, тем ложна, что все положительные категории этой культуры, религиозно ничего не значат. Они — религиозная фикция. Человек, заболевший лже-культурой, либо умрет, либо, в любую апокалиптическую минуту, несомненно, сбросит с себя всю шелуху человечности, обнажив лик зверя. Для Соловьева нецерковная культура обладала какой-то убедительностью, каким-то отражением убедительности. Для нас, она не обладает ничем. Духовные крошки, падающие с христианского 115 стола, освящают, в какой-то мере, всех людей, подающих их, но это освящениe Таинством не имеет магической значимости, а значит является для гуманных, анти-христиан лишь вящим осуждением. Паразитарно-христианское состояние «лаической» Культуры, для нас, не повод к ее конечному спасению, а наоборот, большой повод к ее осуждению... Иначе придется соблазняться «хорошими» людьми не исповедующими Бога, пришедшего во плоти. Внутренняя ложь гуманных нехристиан в том, что в них нет, реально нет любви к человеку, как к человеку. Их любовь и сострадание не идут дальше членского духовного билета «Общества покровительства домашним животным». Эти люди находятся в апокалиптическом духовном тупике, за тонкой стенкой которого, невидимо для них, открывается Царство Зверя. Зверь покровительствует покровителям домашних животных. Покровительство зверя есть, в данном случае покровительство Культуре, потому что гуманный нехристианин видит в культуре домашних животных точный прообраз человеческой культурности (Автор этих строк слышал это апокалиптическое сравнение от одного среднего — «леонтьевского» — европейца). Мирская Культура, сделавшая из средств борьбы с грехом цель греховного самовозношения, утерявшая этим связь с Богом, заменила заповеди предрассудками. Неудобный для одного греха другой грех люди стали убивать третьим грехом. И в апокалиптическом поле смешения всех нравственных богочеловеческих понятий вырастают махровые цветы богомерзких автономий «чести», «достоинства», «солидарности», «уважения» и прочих наивных предрассудков, оторвавшегося от Бога человечества. «Бестиализм», меткое понятие Н. А. Бердяева, долженствующее характеризовать истинное устремление 99% наших современных проповедников «христианского меча», — есть несомненная поправка к соловьевскому культурному апокалипсису. Может быть Н. А. Бердяев воспротивится тем выводам, которые мы сделаем из часто теперь им употребляемого слова: «бестиализм», но для нас оно — симптом. Симптом того, что бестиальность начинает проникать в Культуру, в виде ее полноправной категории. Если полностью этого никогда не случится, то только потому, что культура, в своих догматических провозглашениях условностей, опять струсит, и опять солжет, чтобы существовать. Но все же — нельзя не сказать это с крупным удовлетворением — Mиpoвая война («первая из»), и Мировая революция (пусть пока потенциальная) выдвинули многое такое, о чем трудно было говорить в девяностых годах прошлого столетия. Начиная со шпенглеровской историософии, по существу бессодержательной, но интересной кой-какими подробностями пророчеств, в исторической науке, по-видимому, будут мириться со многими вещами... Американская прагматическая философия со своей стороны открывает культуре горизонты несомненно чреватые неожиданными последствиями... Математические выкладки Эйнштейна, конечно, не останутся достоянием одной физики. Набухающая в отдалении новая человеческая лже-культура будет грубее и бесцеремоннее нынешней. Уже в нашей русской культуре пореволюционных лет бестиализм, сделавшись объектом «точной науки», приобретает все более и более почетное культурное гражданство. Мы знаем, как относится Н. А. Бердяев к бестиализму; но уже тот факт, что к бестиализму как-то начинают относиться, этот факт сам по себе значителен. Многие скажут: негативно-значителен; мы скажем: позитивно-значителен. Зверю в какой-то степени прискучило все лгать. Он вздумал приоткрыть правду. Не истину — которой у него нет — а правду. И что же: люди, мир — не поверили звериной правде. Зверь лжет,— люди спокойны, верят. Зверь выложит правду, люди недоумевают и — не верят. Не в том ли апокалиптичность, что Зверю понравится двойное неверие людей, и он распояшется без опасения, что люди поверят его правде. Соловьев думал, что ложь будет бесконечно в бытии миpa идти лишь со стороны Зверя (говорю о лжи «педагогической»), где культурные люди все время будут нравственно высоки и чутки, что заблуждаться будут главным образом, — не по своей вине. Не является ли предлагаемая здесь возможность полного самообмана людей — большим утверждением богословской свободы человека? Дья- 116 вол лжет и обманщик. А люди? Разве Адам — жертва?... Разве зло, царствующее в мире не есть прямое доказательство ценности человека, как свободной, богоподобной твари?... У Соловьева недооценено личное участие человека в обмане исторического Апокалипсиса. И поэтому его, несомненно либеральная, схема конца миpa может — и даже очень — быть, в реальности, поколебленой. Не скрыт ли, в возможности, со стороны слепых людей — не верить реально-безобразному лику Зверя — верой, окончательный обман победившего мир зла. Бестиальный исход земли нам кажется, сейчас более достоверно-апокалиптичным. Может быть это — опять «дух времени»?... Не знаем. Мы приведем сейчас два документа в защиту своих утверждений. Документ первый: «Владимир Ленин. Статья Максима Горького, в I книге «Русского Современника» (цитаты из статьи). «Жизнь устроена так дьявольски-искусно, что, не умея ненавидеть, — невозможно искренно любить. Уже только одна эта в корне искажающая человека необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть, осуждает жизнь на разрушение». «В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такою глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастью, горю, страданью людей». «Азарт был свойствен его натуре, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе миpa — роль врага хаоса». «Я спросил: кажется мне это, или он действительно жалеет людей. — Умных жалею. Умников мало у нас. Мы народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови». «Великое дитя окаянного миpa сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражде и ненависти, ради осуществления дела любви и красоты» (О Ленине). «И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в миpe вечную память. В конце концов побеждает все-таки честное и правдивое, созданное человеком, побеждает то, без чего нет человека». Документ второй: «Записки писателя». М. Арцыбашев. Газета «За Свободу!» от 31 мая 1925 г. Отрывок № 9 (Продолжение о Савинкове). «В том, что Савинков был простым предателем и прежде сомневались многие — усомнились почти все.. Последними камнями, которыми кое-кто пытается забросать его труп, остаются обвинения в авантюризме и непомерном честолюбии. Некто, имени кого упоминать здесь не хочу, договорился до того, что будто бы шум вокруг Савинкова сделался такой потребностью, что даже для него делая свое «сальто-мортале» с пятого этажа, он воображал себя перед почтеннейшей аплодирующей публикой! Вот она — та мещанская обывательская пошлость, для которой все героическое и трагическое есть только поза, а честолюбие — смертный грех! Авантюрист! Честолюбец! С мещанским подходом к жизни, невозможны Наполеоны, ибо Наполеон — не авантюрист и не честолюбец— абсурд. Мещанину ненавистны трагические жесты и героические тоги, ибо мещанин ненавидит все выходящее из рамок приличия и шаблона. Все должны быть по моде одеты и держать себя скромно, не обращая на себя внимания. Мещанин не понимает, что рядиться в тогу и становиться в позу заставляет героя он же сам — мещанин, толпа, которая не узнает и не признает героя, если он будет похож на всех. «Серый походный сюртук и треугольная шляпа» нужны не Наполеону, а его солдатам. Мещанин этого не понимает, мещанин негодует, но он же первый лобызает полу «серого сюрту- 117 ка», когда этот сюртук становится мундиром императора. А честолюбие... где же понять мещанину, что честолюбие — это тот могучий рычаг, который двигает всей творческой энергией человечества, без которого нет ни героев, ни вождей, ни гениев, ни пророков. Только это вовсе не честолюбие, которое удовлетворяется «Анной на шею» и «положением в обществе». Это то «честолюбие», которое вкладывается Богом в немногие избранные души. Это тот «раскаленный уголь», который горит в груди и заставляет идти на все — на подвиг, жертву, на смерть, — чтобы сказать миpy свое слово, чтобы выячить свою волю. Нет и не может быть среди сынов человеческих такого пророка, поэта, вождя, героя, который не мечтал бы о том, чтобы иметь право сказать о себе: Я памятник воздвиг себе нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа! Но этот памятник — не мавзолей в тысячу пудов, а крест на Голгофе...» ... Признак апокалиптичности мы условились видеть в неприкрытой, и несчастной, конечно, религиозной глупости человека. Кн. Д. А. Шаховской. 118
|