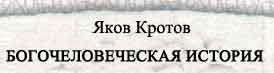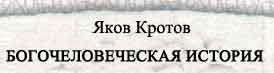Макс БекманMax Beckmann ( 12.02.1881 года [Лейпциг]- 27.12.1950 года [Нью-Йорк]) См. Евангелие в живописи. Макс Бекман. Воскресение. http://www.peoples.ru/art/painter/beckmann: СНЫ И ЯВЬ МАКСА БЕКМАНА Ранним утром 27 декабря 1950 года мусорщик, убиравший 69-ю улицу в Нью-Йорке, наткнулся на тело лежащего навзничь мужчины. Мужчина был мертв. Мусорщик, присев на корточки, обшарил карманы пальто и нашел визитную карточку: Макс Бекман, художник... Последние недели перед смертью Бекман работал над триптихом «Аргонавты». Он знал, что у него плохо с сердцем. Это побуждало его работать не меньше, а больше. Он хотел успеть. Но, как это часто бывает, грандиозный замысел раздражающе вяз в десятках живописных подробностей и деталей, каждую из которых Бекман вылепливал с напряжением и старательностью ученика: лира, лежащая на палубе, волосы Медеи, борода художника, водоросли, тень... У него не выходила голова того аргонавта, что стоит справа. 16 декабря, разъяренный собственной медлительностью, он бросил на страницу перекидного календаря несколько слов, написанных острым, раздраженным почерком: «Двенадцать часов над правой головой аргонавта — какой бред!» 17-го, страдающий от простуды, записал, что работал «четыре часа над смехотворной правой головой». 23-го возликовал: «Простуда прошла!», бросился работать, а вечером добавил: «...голова аргонавта... будь она проклята»... 24-го: «Я мертвецки устал... Аргонавты готовы — легкий дождь в Центральном парке». В 1901 году Макс Бекман, семнадцатилетний ученик художественной школы в Веймаре, нарисовал странную картинку: автопортрет, на котором правый зрачок почему-то съехал в угол глаза, а рот разинут в вопле. Что он кричит? Отчего кричит? В картинке было какое-то жестокое уродство — уродство ужаса, овладевшего сознанием. Так кричат люди во власти страшного сна. Желая как-то связать свои видения с реальностью, он в 1909 году написал «Землетрясение в Мессине», а через три года — «Гибель «Титаника». Ни в Мессине, ни рядом с «Титаником» Бекман не был, но рисовал так, как будто был,— резкие, отчетливые, жутковатые сцены человеческой гибели. Уже тут виден его дар облечь сны в плоть и кровь и мясом наполнить каждую деталь. Вряд ли тогда, в начале века, он сам мог бы объяснить свой интерес к сценам смерти и насилия. Но нам, сейчас глядящим с этого берега века на тот, знающим о двух мировых войнах, о концлагерях и миллионах насильственных смертей, ясно: этот крик, это болезненное внимание к ужасному — предчувствие... В 1914 году Бекман добровольцем пошел на фронт, санитаром в медицинский отряд. Ура-патриотом он не был. В «Письмах на войне», маленькой книжечке, изданной в 1916 году, он с усталой иронией писал о тех, кто «под пиво с музыкой» поет «Германия, Германия превыше всего». Не о победе для него шла речь, а о том, чтобы присутствовать при катастрофе, в кровавом ее эпицентре. Он делал зарисовки моргов. Анатомию человеческого тела он изучал в полевом лазарете. Он обходил палаты, где лежали люди после ампутаций и, глядя на них, понимал что-то такое о строении человеческого тела, чему не научишься ни в каких художественных школах. В глазах его был теперь тот самый крик, который он нарисовал еще в 1901 году,— крик сознания, не справляющегося с кошмаром. Это «Автопортрет в форме санитара», написанный в 1915 году: бледное, нездоровое лицо, невротический блеск в глазах. Его демобилизовали. После года на фронте он стал психически негоден для войны. Но от войны он уже не излечился. Никогда. Последствия были необратимы: он не мог нарастить добропорядочные понятия о жизни, как наращивают жирок после лишений. Самые кошмарные юношеские фантазии и предчувствия, самые ужасные в своей осязаемости сны сливались с его опытом, полученным на полях Восточной Пруссии и Фландрии, «Может ли так быть,— спрашивал он сына в письме в 1949 году, когда кончилась уже и вторая мировая, бывшая еще страшней первой,— что имеешь боли, обусловленные душевными ранами, полученными в военное время?» Всякое время было теперь для Бекмана военным, хотя войны как таковой нет на его полотнах. Но она все-таки есть, она незримо стоит за окнами, задернутыми занавесочками, она стоит за холстом и нависает над всем изображенным огромной тенью. Почему так часто лица на картинах Бекмана исполнены смутной, неосознанной тоски? Чего боятся, отчего тоскуют люди на картинах Бекмана? Они боятся чего-то, что гигантским локомотивом налетает из тумана, окутывающего мирок настоящего, боятся будущего кошмара, который живет в их снах. Бекман думал о войне, даже когда рисовал что-то совсем другое. В 1940 году, в эмиграции, в Голландии, на пустом пляже, опутанном колючей проволокой, он рисовал чаек. «Чайки — это летчики,— сказал он сыну в своей обычной отрывистой манере.— У вторжения нет никаких шансов на успех». Он говорил о готовящемся вторжении Гитлера в Англию — Гитлера, от которого он бежал... Насилие было постоянной темой Бекмана. Когда правые офицеры в 1918 году убили Розу Люксембург, он в подробностях изобразил все происшедшее в серии литографий под названием «Ад» и с издевкой написал на первом листе: «Недовольные могут получить деньги назад». Эта война, продолжающаяся после войны, это вечное убийство, совершающееся в жизни, были ежедневным кошмаром для Бекмана, который сам себя называл «неврастеником». Он мог на время изгнать кошмар из души, нарисовав его. «Еще раз,— записывал он в полночь 8 сентября 1940 года,— все, что я сделал и создал, это только сброшенные оболочки моей жизни»,— оболочки, под которыми он обнаруживал все то же, всегда все то же: одиночество и тоску, «депрессию и дикое самоощущение», тягучий и трудно выражаемый на полотне сон, похожий на явь. Жизнь была для Бекмана неразгаданной тайной. Его картины — всегда больше, чем слепок с места и времени. Он пытался проникнуть за место и время, понять, что стоит за событием, за человеком. Проникнуть туда, в это за, было немыслимо трудно. «Если хочешь понять невидимое, проникай в видимое как можешь глубже» — вот было правило Бекмана. Это значило глазами врабатываться во всякую жизнь — в рыбу, в птицу, в человека. Птицы его особенно восхищали. Вся красочность мира была сосредоточена в них, в этих голубых какаду и черных попугаях, которых он видел скачущими с ветки на ветку в зоопарке голландского города Дерентвин. Цвет для Бекмана был не аналогом чувства, а самим чувством. «Едва только я подумаю о сером, зеленом и белом или о черно-желтом, серно-желтом и фиолетовом, как меня охватывает трепет сладострастия»,— писал он, вылепливая мощные руки и ноги своей «лежащей женщины». Но массы плоти и густые лужи цвета, как бы ни восхищали они его, никогда не были для Бекмана самоцелью, концом движения; отдав им должное, он стремился дальше, глубже, к скрытому под ними маленькому трепещущему язычку духа. Отгадывать вещи. Откапывать смыслы. Этот ежедневный пробив вглубь отнимал у него все силы. Он уставал, как горняк в шахте. «Устал как полумертвый, весь день писал — в остальном буря и дождь и плохое настроение»,—записывал он в дневник. «Пьян от усталости и не могу спать». «Работал до обморочного состояния». «Усталость на два дня, после того, как интенсивно поработал один». И добавлял не без юмора: «Хотел бы знать, почему живопись такое утомительное занятие. Всего-то немного мажешь краской...» Сегодня и вечность, реальность и сон каким-то зыбким и завораживающим образом перетекали друг в друга на полотнах Бекмана. В картинах Бекмана есть вечность, хотя в них нет холода и пустоты абстракции: это происходит сейчас, но это происходит всегда, это снится, но это будет. Ужас страшного сновидения оказывается ужасом фашизма. На картине «Птичий ад» ядовито-желтые и фосфорно-голубые птицы терроризируют людей, которые в ужасе вздели вверх руки и кричат, раскрыв рты. Пытка: птица ножом полосует лежащего человека. Но все это — по периферии полотна, а в центре, предвещая еще больший кошмар, вылупляется из яйца зловещая птица-матка, птица-ведьма, птица-физическое воплощение смерти. Это гарпии из мифа или штурмовики Рема из соседнего дома? Откуда вырвался этот дикий выводок — из убогих условий социальной жизни или из нашего подавленного подсознания? Сам Бекман чаще всего молчал в ответ на такие вопросы. «Художник рисует, а не болтает» — такая была у него присказка. В этом большом, по-медвежьи грузном человеке был глубокий пессимизм, замыкавший ему уста. Перед собственным вселенским пессимизмом он казался самому себе маленьким и смешным. «Запертые, как дети, в темной комнате, мы сидим и ждем, пока нам откроют двери и поведут на казнь, на смерть». На фоне этого — что значили все его мучения, все его сомнения, вся его живопись? Он не очень-то верил в счастливые исходы и собственное величие. «Старый осел», «старый клоун» — называл он себя. И даже «маленькая блоха». Люди на полотнах Бекмана противоречили нацизму тем, что были не такие. «Третий рейх» требует от искусства чистоты, прилежания и умения»,— писала 18 июля 1937 года «Берлинская иллюстрированная газета», публикуя то, что в аршинном заголовке называлось «Произведения, пролагающие путь для немецкого искусства». В числе других тут была картина художника Эбера «Последняя граната» — воин в каске рвет чеку, взрывая себя и врагов. Лицо его исполнено суровой и мужественной красоты — красоты подвига. Он не знает ни тоски, ни сомнений, ни страха—даже страха смерти. Вот на кого должна походить немецкая молодежь!.. У Бекмана тоже была своя «граната», нарисованная еще в 1915 году. Ломкие, уродливые фигуры, отбрасываемые взрывом на край холста, оскаленные зубы, темные глазницы, торчащие руки и ноги... Нет ничего красивого или мужественного в этом зрелище разносимых на клочки людей. Такая живопись нацизму была не нужна — на ней нельзя было воспитать поколение бесстрашных героев. В брошюре «Немецкое искусство и выродившееся искусство», изданной в Мюнхене в 1938 году, было сказано, что «едва ли существует хоть одна картина большевика от искусства Бекмана, которая не представляла бы из себя подлости». Он воспринял это спокойно — во-первых, потому, что ничего хорошего от нацистов не ждал, а во-вторых, потому, что ничего хорошего не ждал и от жизни. Со стойкостью, следовавшей из полного осознания себя и судьбы, он писал, что «я больше не подхожу к новому казарменному миру...». При этом он ни от чего не отрекался. «Всю мою жизнь я старался искать свое «я». И от этого я не отступлюсь, и не будет никакого нытья о пощаде и жалости, и пусть я во веки веков поджариваюсь на огне. И у меня есть права». В Голландии, в эмиграции, он прожил всю войну. С женой он предпринимал долгие велосипедные прогулки. Он гулял по пустынным пляжам, всматривался в серую даль воды — до тех пор, пока немцы не объявили пляжи «запретной зоной». Возбужденный газетными новостями, Бекман ходил по узким средневековым улочкам Амстердама, громко стуча по булыжнику своей неизменной толстой бамбуковой палкой. Его жена, Кваппи, уговаривала его не курить, не пить, не работать так, как он работал—тяжело, без перерыва. Но он все равно боролся со своими полотнами в просторном и прокуренном помещении бывшего табачного склада, где у него была мастерская. Как бы далека ни была война от Голландии, для Бекмана она была так же близка, как прежде,— катастрофа происходила не вокруг него, а в нем. По ночам он не спал, прислушиваясь к гулу идущих на Берлин американских бомбардировщиков. Слов не было. Вместо слов он ставил в дневнике тире, ставил восклицательные и вопросительные знаки, наращивая их количество — немой крик: «II??!!??». «Непросто высоко держать голову во всех этих условиях, и это чудо, что я еще вообще существую». Все-таки он держал голову высоко — «как утопающий». Война, которую Бекман в эти годы называл по-голландски «оор-лог», диковатым языческим словом как бы подчеркивая жестокость и бред происходящего, как и прежде, причиняла ему физические мучения. Мучительно быть немцем в годы Освенцима. У него болела голова, скакал пульс, что-то неладное происходило с сердцем. Пытаясь понять, что происходит в жизни и какова природа той ужасной жестокости, что захлестнула XX век, он целыми днями, запойно читал «Бесов» Достоевского — ив итоге, как когда-то на фронте, срывался в нервное расстройство, так и не найдя ответов на свои вопросы. Нужда все время держала его за горло. Бекман ходил на рынок продавать кольцо и меланхолически записывал: «Можно экономить и тогда что-нибудь позволять себе, и можно проматывать деньги и тем самым тоже что-нибудь позволять себе. И то и то вместе не выходит». Это, может быть, одна из самых длинных фраз в его дневнике. Бекман писал невероятно скупо, телеграфным стилем, в котором все-таки умудрялся выражать самоиронию: «Холодной темной ночью — домой, держал большую речь — ну да — и так далее». Этими короткими «ну да», «нда» усыпан его дневник. Его фразочки похожи на точно воткнутые булавки: «Дни бегут — куда?», «Мир становится все более гротескным», «Пессимизм», «What about cigarettes?» и «Чего же ты, собственно, хочешь, старый осел?» Что бы там ни говорили 21 Кваппи и врачи о его сердце и вконец растрепанных нервах, он работал. «Ничего не важно, кроме работы!» Работа была крепостью, которую он построил себе посредине Апокалипсиса,— крепостью, в которой нельзя было укрыться. «Да, да, я знаю, что приходит конец и мне и Германии — чем тут поможешь и спасешь...» Это он писал весной 1945-го. Война шла к концу, а Бекман никак не мог смириться с мыслью, что выжил. Выжить — это было противоестественно в век промышленного превращения человека в мыло. Кваппи говорила о планах на будущее. «Если только в последний момент мне не свалится на голову бомба или кирпич»,— отвечал он. В первый послевоенный год его живопись «открыл» американский торговец картинами Курт Валентин. Валентин устроил выставку-продажу в Нью-Йорке, и все картины были распроданы. «Даже два портрета и голландский ландшафт... до сих пор не переживал ничего подобного!» — удивлялся Бекман. Картины его ярко и мощно ворвались в послевоенный мир — они доказывали людям, что диктатура, при всем своем могуществе, не способна переделать на свой лад художника, с его двумя кисточками и коробкой красок. Эти картины, рождавшиеся на голландском чердаке в дни битвы под Москвой и взятия Берлина, упорно говорили людям правду о них самих — ту правду, которая не каждому приятна и которую человек скорее готов признать относительно другого, чем относительно себя... Теперь у Бекмана были деньги и слава, и он, всегдашний пессимист, вдруг с тщеславным и наивным удовольствием записывал в дневник, что о нем говорят, будто он принадлежит к четырем или пяти лучшим художникам своего времени. Самоирония, впрочем, не позволяла ему очень уж увлекаться этим. «В «Тайме» репродукции и рецензия. Довольно потешно, но — должна же что-то иметь и женщина, убирающая клозетт в Ча-тауге». Начались интервью. «Метод?» Художник качает головой. «Нет, у меня нет метода. Рецепта нет...»,— сказал он Дороги Зеклер из журнала «Новости искусства». Но потом вспомнил — а ведь кое-чему он все-таки научился за сорок пять лет работы! Надо ставить картины вверх ногами. «Поставить картину вверх ногами — это проверка равновесия композиции. Если что-то не так, то это сразу видно. Любое великое полотно прошлого выдерживает эту проверку...» Цели, цели, какие у него цели? «Современное сделать вечным и вечное современным». Он искал форму, в которой мог бы связать воедино сегодня и вечность, духовное и материальное. Этой формой был триптих. В Америке, куда он перебрался после войны, Бекман обдумывал и писал «Аргонавтов». Замысел был грандиозен — триптих площадью примерно шесть квадратных метров, на трех створках которого должна была уместиться вся жизнь человечества. Сюжет прорастал из снов. «Мне снились аргонавты! — воскликнул он однажды утром, когда жена разбудила его.— Это были фигуры с моей картины, они вдруг ожили — это было очень необычно, как-то жутко и тревожно,— странно, ничего такого со мной еще не бывало». «Аргонавты», подводившие итог его жизни, как ни удивительно, оказывались вовсе не мрачными — во всех трех частях царит светлый, сдержанно-жизнелюбивый колорит. Тут нет ни войны, ни насилия, ни смерти. Это та вечная, ни на секунду не умирающая, ничем и никак не побеждаемая жизнь, которая за всеми концлагерями, над всеми убийствами и насилиями,— жизнь, исполненная творчества и приключений. На центральной части изображены два юноши, стоящие на палубе корабля — загар и соль на их стройных обнаженных телах. Это — аргонавты, отправившиеся в путь за таинственным золотым руном, и это — вечно нарождающаяся молодость, пускающаяся в плавание наудачу. Из глубины моря поднимается к ним на палубу обросший бородой, старый как мир бог Нептун: он подскажет им курс, он поможет им, как всегда смелым помогает судьба. Они, эти двое молодых аргонавтов, в центре триптиха и в центре жизни, они, пускающиеся в путь, ищущие руно на далеких просторах морей,— главные герои жизни, главные действующие лица истории. Слева от них — художник, рисующий Медею. Справа, плотно заполняя пространство пюпитрами, инструментами, лицами и руками, играет небольшой камерный оркестр. Что он играет? Что написано на нотах? Привыкшие к ребусам Бекмана люди и тут искали загадку, но ее не было. «Это просто хор»,— сказал он. Хор, который всегда сопровождал действие в греческой трагедии. К рождеству 1950 года «Аргонавты» были в общем и целом закончены — оставалось переделать и перебороть несколько никак не удававшихся деталей. 25 декабря Бекман дал себе день отдыха и гулял в небольшую метель, а вечером, желая отвлечься, пошел в кино. 26-го, в предпоследний день его жизни, с утра до вечера валил снег. Бекман стоял у триптиха и работал. «Опять работал над головой аргонавта... Кваппи сердится». Она сердилась оттого, что он не слушался ее и врачей, предписавших размеренный и неутомительный образ жизни, необходимый для того, чтобы сердце протянуло. Сон, начавшийся Плачем и окончившийся Плачем смерти,— Сон жизни, ты Приснился мне весь. (Из дневника Бекмана, без даты.) Дата публикации на сайте: 12.12.2001 |