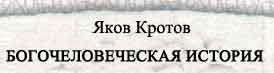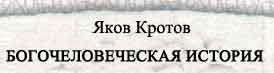РОНАЛЬД НОКС
Из "Библиологического словаря"
священника Александра Меня
(Мень закончил работу над текстом к 1985 г.; словарь оп. в трех томах фондом Меня (СПб., 2002)) К досье МеняНОКС (Knox) Рональд, свящ. (1888-1957), англ. католич. богослов, переводчик Библии. Род. в семье англиканского епископа. Окончил Оксфордский ун-т и в 1910 стал свящ. англиканской церкви. Был капелланом (1912) в Тринити Колледж (Оксфорд). В эти годы сблизился с кругами, тяготевшими к католичеству, и стал одним из лидеров прокатолич. движения в англиканстве. В 1917 он перешел в католичество и был рукоположен. Пройдя курс в католич. колледже св. Эдмунда, Н. в 1926 получил назначение в Оксфорд капелланом колледжа. Там он предпринял перевод всего Свящ. Писания на англ. язык. В основу была положена *Вульгата. Язык перевода Н. специалисты оценили как классический, а католич. иерархия одобрила Библию Н. для церк. употребления. Перевод выходил по частям с 1944 по 1948 (полное изд. 1955). Н. приобрел также известность своими поэмами, сатирич. романами, очерками и апологетич. трудами. u On Englishing the Bible, L., 1949. l W a u g h E., The Life of the Right Reverend Ronald Knox, L., 1959; W o l t e r - H a u s J., Roland Nox, TTS, s.303-8; ODCC, p.786-87.
Роналд Нокс: Честертон. Человек и его творчество.Мое любимое воспоминание о нем — обед с друзьями в Хертфорде. После обеда его попросили спуститься в сад, чтобы больная бабушка, прикованная к постели, могла из окна увидеть великого Честертона. Он охотно согласился — правда, мы с трудом уговорили его расстаться с корзиной для бумаг, которой он прикрывал лицо. Чтобы он не так смущался, я предложил пойти вместе с ним. «Пойдемте, пойдемте: — воскликнул он. — Это нужно для контраста. Вы будете Обычный Человек.» Ведь Честертон был не только очень толст (и гордился этим), он был очень высок и широк в плечах. Я совершенно уверен, что именно поэтому ему был нужен такой фон, как я. Пока я шел рядом с ним по тропинке, которую он, наверное, где-нибудь описал — мимо старой мельницы, мимо пылающих маков, — я ощущал, что величие его разума выгодно выделялось бы не только на фоне такого человека, как я, но и рядом почти с любым из наших современников. Почти все заурядны по сравнению с ним. Я называю его великим, ибо он был истинным художником мысли. Бывают художники слова, которые вполне довольствуются заимствованными мыслями; бывают великие мыслители, которым все равно, как выразить свою мысль. Лишь у немногих мысль словно рождается одетой в точно соответствующие ей слова — таковы Платон и Паскаль. Честертон был художником прежде, чем стал писателем. Те, кто видел его картины, помнят, как из темного, туманного фона выходит одинокая, сияющая, исполненная движения и жизни фигура. Так видел он все — он сразу обращался к самой сути. Он пишет об «удивительном создании»..., у которого «непомерно маленькая голова на слишком длинной и слишком толстой шее, словно химера на трубе, и грива, подобно бороде, вырастает не там, где надо, и крепкие ноги с цельным, а не с разделенным копытом». Мы ошарашены, мы озадачены, пока не сообразим, что это — совершенно точное описание лошади. Так же, с редкой точностью, он видел и совсем уж странное чудище — человека. Я называю его великим, ибо он с одинаковой легкостью жил в любой среде, писал в любом жанре, Я верю, что он и впрямь заглянул однажды к своему литературному агенту узнать, нет ли предложений. «В вашем вкусе нет, — ответил тот. — Обращались из «Сатэрдей ивнинг пост», но им нужны детективы». — «Что ж, попробую», — сказал Честертон и, усевшись прямо там, в конторе, написал первый рассказ об отце Брауне. Детективы, выдумки, стихи, пьесы, история, биография, эссе — все годилось ему. Ни в каком жанре он не был слишком прилежен («Баллада о белом коне», пожалуй, самая отшлифованная у него), но сияющая суть проступает непременно — суть, которую никто не замечает, потому что она слишком проста. Он в самом деле был великим — он видел жизнь как стройную систему взаимосвязей, брался за любую тему, и оказывалось, что она связана со всем строем его мыслей, а вы сразу понимали, что только он мог так написать. Например, он предложил проект, который довольно небрежно и неточно назвал дистрибутизмом. Идеи его, я уверен, будут жить долго, но это не доктрина и не философия, просто он так видел мир. Он начал писать — и обнаружил удивительную зоркость, зрелость мысли. Когда ему исполнилось тридцать, он был уже автором «Наполеона Ноттингхиллского» и биографии Диккенса. Казалось, он не только распознал, но и прожил и изжил все тогдашние иллюзии и заблуждения. В 1905 году он написал книгу «Еретики», ибо слишком устал от усталого мира эстетов, в котором вырос, был слишком сложен для усложнений либерализма, завладевшего нашей политикой, и слишком скептичен, чтобы присоединиться к скепсису поздневикторианских ученых. Попытаюсь выразиться на честертоновский лад: в те времена он перерос мужчину и снова стал мальчиком. В нем было много мальчишеского, он вновь и вновь перечитывал «Остров сокровищ», он вообще многим обязан Стивенсону, которого мы называли РЛС. Несмотря на большую разницу характеров, Честертон унаследовал от Стивенсона тот отчаянный оптимизм, с которым он после 1905 года неустанно нападал на победителей. Он защищал малые народы, когда всех нас уже почти убедили мыслить по-имперски, защищал частную собственность, когда все мы увлекались социализмом, защищал мелкий бизнес и маленькие лавочки, когда все прибрали к рукам монополии, защищал брак, когда общество наконец решилось признать развод. И хотя он защищал старые установления, он всегда казался моложе тех, с кем он спорил. Свое мироощущение («Человек, который был Четвергом», «Шар и крест»), и свое богословие («Ортодоксия»), и свою социологию («Что стряслось с миром?») он обрушивает на вас с простодушием мальчишки. Самой детской его чертой было то, что он не умел сдерживать смех, когда ему нравилась собственная шутка. Смех этот не был похож на смешок или хихиканье — он пронзительно хохотал. Я хорошо помню, как впервые услышал его смех на собрании оксфордских студентов, где обсуждали, какой именно город послужил прототипом диккенсовского Итонсвилля. Хотя Честертон и пришел в восторг от такого интереса к Диккенсу, он, конечно, ухватил ускользавшую от всех суть спора. «Современный человек, — сказал он, — мечтает построить дом точно там, где были Содом и Гоморра» (тут-то и раздался его хохот). Вообще поведение его в споре я сравню только с нахальством мальчишки. Он веселился, как школьник, поймавший учителя на ошибке. Хотя все, что он отстаивал, было для него бесконечно важно, сам процесс спора был скорее игрой. Помню, однажды, когда я писал разгромную статью о теологической концепции одного лорда, который из политических соображений не пользовался титулом, я спросил Честертона, можно ли все-таки назвать этот титул в статье. И снова услышал его смех: «Нечестно, но очень уж хочется» В 1922 году, когда Честертону было под пятьдесят, он — осмелюсь продолжить парадокс — перерос мальчишку и стал младенцем, присоединившись к нашей Церкви. Склонности и повадки маленького ребенка тоже всегда были в нем. Я очень люблю рассказ об участнице детского праздника в Биконсфилде, которую спросили дома, умен ли Честертон. «Не знаю, — ответила девочка, — а вот посмотрели бы вы, как он ловит ртом булочки!» В отличие от многих взрослых, которые хвалятся «любовью к детям», Честертон не тешился детским простодушием. С великой серьезностью вступал он в серьезнейший мир детства. Признаемся, он, как многие гении, нуждался в няньке. Быть может, это анекдот, но вполне правдоподобно, что однажды он дал жене телеграмму: «Я в Ливерпуле. Где должен быть?» Но, когда я говорю, что в последние годы жизни Честертон вернулся в младенчество, я имею в виду другое. Мысль его была по-прежнему сильной и зрелой, и я уверен, что наши потомки прочтут «Вечного человека» как лучшую его книгу. Идеи его стали глубже и ярче, за всеми извивами стиля проступает неисчерпаемая простота мысли. Однажды он участвовал в телевизионной передаче «Шесть дней», где каждый участник должен был на свой лад рассказать о событиях и переживаниях обычной недели. Все мы болтали о том, о сем; Честертон посвятил свои двадцать минут шести дням Творения. Легко понять, почему он вернулся в детство: он обрел дом. Герой его книги «Жив человек» обошел мир, чтобы пережить восторг открытия и обретения, вернувшись домой; так и Честертон прошел по всем путям мысли, испробовал все учения, чтобы вернуться в ту веру, которая изначально была ему духовным домом, в церковь своего друга, отца Брауна. Он бы присоединился к Церкви раньше, если бы не боялся огорчить свою жену, героиню всех его книг. Четыре года спустя она последовала его примеру. Читатели его автобиографии помнят, как в одной из первых глав он описывает главного героя своего детского театра — человека на мосту с золотым ключом в руке. Читатели помнят, как в одной из последних глав этот человек превращается в символ — в того, кого Честертон много лет спустя признал Ключарем и Первосвященником. Он понял, что вернулся домой. Он по-прежнему был бойцом, и симпатии его собратьев по вере не всегда были с ним; но вера его, самая глубинная суть, уже не превращала его в отвергнутого сумасшедшим миром. В детской Господа Бога он обрел, наконец, друзей. Несколько лет назад Честертон отправился в Лизьё, чтобы посетить храм святой, которая призвала нас уподобиться детям. На обратном пути он заболел, и вскоре мы похоронили его на новом кладбище в Биконсфилде — продолжении того кладбища, где покоится прах Эдмунда Берка. Несколько строк в книге, вышедшей недавно под названием «Преждевременные эпитафии», подводят итог его жизни в хвале, по-прежнему истинной, но, к несчастью, уже не преждевременной. Последняя из этих строк — «В небеса восходит Честертон-дитя». |