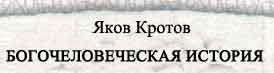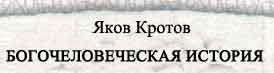Крекшин Андрей Николаевич Род. 1956, окончил искусствоведческий факультет МГУ, семинарию в Загорске, в 1989 г. рукоположен, 1998 г. "перешел в католическую церковь", в 2001 докторант иезуитской высшей школы философии в Мюнхене - справка "Przeglad powszechny", 2001, №3. 18 июня 1992 года первую Божественную Литургию в возрождающейся обители совершил Управляющий Московской Епархией Высокопреосвященнейший Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Настоятелем Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря назначен иеромонах Игнатий (Крекшин) с возведением в сан игумена и возложением наперсного креста. Был членом комиссии по канонизации при Священном Синоде 21.07.1998 г. постановлением Св. Синода освобожден от должности настоятеля Богородице-Рождественского Бобренева монастыря, с отчислением заштат по состоянию здоровья согласно поданному прошению.
Также 21.07.1998 г. постановлением Св. Синода освобожден от членства в Комиссии по канонизации святых.
С 1998 года служит в греко-католическом храме во имя свт. Николая в Мюнхене.
Опубликовано в ж. "Истина и жизнь", 2005 г., №1. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ Встреча, которая продолжается Игнатий Крекшин Книга парижского профессора Ива Амана об отце Александре Мене давно известна российскому читателю по многократным изданиям. Пять лет назад книга многолетнего друга отца Александра увидела свет и в Германии – перевод с французского на немецкий был подготовлен отцом Игнатием Крекшиным. С публикуемым ниже (с небольшими сокращениями) эссе о. Игнатий выступал тогда в Айхштетте, в рамках международной конференции памяти протоиерея Александра Меня. Публикация этого воспоминания-свидетельства представляется сегодня особенно важной потому, что духовный опыт отца Александра, оценённый и воспринятый в других странах, в России для многих остаётся подозрительным и невостребованным во всей полноте. Сергей Бычков
Книга Ива Амана — не просто описание жизни свидетеля Христова в наше время, она сама свидетельство веры. Свидетельствовать о вере в эпоху смерти Бога и смерти человека, в эпоху умирания Церкви — неподъёмно трудно. Свидетельствовать о вере — это значит вызвать насмешку, если вообще не прослыть дураком. Свидетельство о вере всегда было юродством, а сейчас почитается вообще за безумие. Нужно иметь мужество быть безумным всерьёз, а это почти немыслимо. И тем не менее Ив Аман нашёл в себе это мужество. Профессор Парижского университета не боится свидетельствовать о Христе, не боится быть безумным в родной ему Франции, только по старинке называемой "старшей дочерью Церкви", но уже давно живущей славными традициями безверия. Как не боялся он быть безумным, служа культурным атташе французского посольства в советской Москве, когда переправлял рукописи Солженицына и отца Александра на Запад и тем самым выбарывал нашу свободу. Выбарывал с реальной опасностью потерять престижное место — тогда ведь почти ни одна из официальных западных столиц из страха не хотела портить сомнительных отношений с брежневско-андроповским монстром из-за каких-то там правозащитников, и по звонку из советского МИДа ничего не стоило уволить неугодного дипломата. Но Ив ничего не боялся потерять и бесстрашно наводил мосты — к свободе. Он сам никогда об этом не расскажет, он вообще не любит об этом говорить. И если бы не Солженицын, который с симпатией напишет об Иве в своих "Невидимках" — а заслужить симпатии Солженицына не так просто, — не узнать бы тогда большинству подвига тихого Ива. Наверное, трудно было Иву начать писать книгу о человеке-которого-уже-нет, о близком друге, которого здесь навсегда потерял, который, по всем человеческим меркам, превратился в Ничто, в Ничто, которое не существует, и с несуществованием которого невозможно смириться. Подобное чувство немоты после болевого шока от смерти отца Александра пришлось испытать мне самому. Когда на сороковой день после его гибели Екатерина Гениева, директор Библиотеки иностранной литературы, попросила меня написать о нём воспоминания для готовящегося сборника его памяти, я отказался. Тогда я не мог писать об отце Александре в форме прошедшего времени, в которой принято составлять некрологи, — некрологов я не люблю. Должно было пройти пять лет, прежде чем я решился опубликовать в Москве и в Париже свои заметки об общении и встречах с ним, или, лучше сказать, о той длящейся встрече, которая до сих пор не кончается. В этой встрече исчезло анонимное Ничто, в живом общении ушёл страх перед небытием смерти. Прежде чем эта встреча состоялась, нужно было пережить тягостное время расставания, увы, не закончившееся для некоторых до сих пор. Тайна смерти осталась неразрешимой, такой смерти — особенно. Тем более когда теряешь друга. Для каждого, для кого отец Александр был другом и учителем веры, его смерть была испытанием: кто-то впал в отчаяние, кто-то даже ушёл из Церкви, многие замкнулись в себе, все были в страхе и оцепенении. Это был настоящий "удар по Церкви", как скажет старый друг отца Александра, польский православный священник Генрих Папроцкий. Все тогда вспоминали слова Писания: "поражу пастыря, и будут рассеяны овцы стада" (Мф 26. 31). Было искушение молчать, и как кому-то хотелось, чтобы все замолчали, как послушно молчали в нашей несчастной стране многие десятилетия… Я не вправе здесь говорить о том, как Ив пережил смерть отца Александра, — это слишком интимно. Я знаю, что ему было трудно говорить, ему тоже хотелось молчать. Ведь для него отец Александр был не просто другом. Для него, католика, этот русский православный священник, сын Израиля, был братом во Христе. Да, братом во Христе, несмотря на их различную конфессиональную, или, как шутил отец Александр, "партийную" принадлежность. Он был для него свидетелем веры неразделённой Церкви, живым свидетелем заповеданного Иисусом христианского единства. "Экуменизм" отца Александра был далёк от наивного легковерия некоторых христиан, пренебрегающих порой собственной культурной идентичностью, — именно в многообразии традиций он видел богатство Церкви. Тем более далёк он был от официального экуменизма, в котором видел опасность политического прагматизма. Напротив, он осознавал остроту разделения между христианами и понимал, как трудно будет его преодолеть в исторической перспективе. Так, на заданный ему в одном из интервью вопрос о взаимоотношениях между католиками и православными он с горькой иронией ответил: "Мы нагородили между собой столько баррикад, что теперь не знаем, как их разобрать". И тем не менее он почему-то часто вспоминал слова жившего в XIX веке киевского митрополита Платона Городецкого: "Наши земные перегородки не доходят до неба". Почему, спросите вы? Дело в том, что христианское единство для отца Александра начиналось не столько на экуменических конференциях или в кабинетах учёных-богословов, необходимость коих он вовсе не отрицал, сколько в сердце человека, в живом свидетельстве его свободной веры, залогом которой может быть только взаимная открытость и любовь. Не случайно своим девизом он избрал бессмертные слова Августина: "В главном — единство, во второстепенном — свобода, во всём — любовь". Только в этом он видел начало христианского единства, более того — единства всего человечества, возможность осуществления полноты Богочеловечества. Отец Александр был для Ива голосом свободы, свободы мысли и действия, свободы веры и поиска истины, короче — свободы самой жизни, несовместимой с какой-либо формой несвободы. Что подлинная свобода была немыслима в условиях советского тоталитаризма, об этом здесь говорить излишне. Что борьба за свободу стоила многим праведникам жизни — об этом мы будем помнить. Но сегодня мне хочется сказать об особом опыте свободы, пережитом отцом Александром. Я думаю, что отец Александр не был в строгом смысле борцом за свободу, не был тем, кого принято было называть диссидентом. Хотя он и поддерживал постоянные связи со многими правозащитниками (многие из них были его прихожанами), сам он избегал участия в каких-либо политических акциях. Он понимал своё служение свободе в другом. Он был учителем свободы, без него сама борьба за свободу была бы просто невозможна. В призвании к свободе он видел смысл жизни человека — к свободе не только внешней, которую легко потерять, но к свободе прежде всего внутренней, которую никто отнять не в силах. В каждом человеке, приходившем к нему, он видел личность, каждому он помогал преодолеть "комплексы" рабства, каждого пытался вывести на путь подлинной свободы. Да, это было трудно — помочь другому обрести свободу. Да, порой от него кто-то уходил, так и оставаясь в плену собственной несвободы, но он не хотел и не мог свободу навязывать. Потому что он сам дорожил свободой, свобода была его modus vivendi. Его свобода проявлялась во всём: в повседневности, в общении с людьми, в независимости и продуманности суждений, в самостоятельности его богословского творчества, как бы дорого ему ни стоила эта самостоятельность. Более свободного человека я, пожалуй, не знал, разве только Андрея Дмитриевича Сахарова. У него был другой путь к свободе, другой опыт её обретения. Но оба — священник и академик — были внутренно свободны, и в этом я нахожу их глубокую личную связь. Будучи свободными в этой жизни, они так же свободно из этой жизни ушли, в один год, с разрывом всего лишь в десять месяцев. Так ни разу и не встретившись в этой жизни — а возможность такая была, только времени, как всегда, не хватило, — они, верю, уже пережили тайну встречи в другой. И в этом я тоже усматриваю глубокую духовную связь этих двух праведников. Наконец, отец Александр был для Ива вестником Царства Божьего, носителем пламенной пророческой веры, воспринятой им от его библейских предков. Открыв для себя Христа в детстве, пережив встречу с Ним, он шёл за Ним и вместе с Ним в поисках пути, истины и жизни. Осознавая трагедию исторического пути человечества, он тем не менее верил в Царство свободного духа и любви. Не закрывая глаза на кризис современной Церкви, он постоянно говорил о том, что "христианство только начинается", — и в этом выражалась его эсхатологическая вера. Эта вера вела отца Александра за Христом, она помогла ему взойти вместе с Ним на Голгофу, где его ожидал Крест, обагрённый кровью Иисуса, Крест, который будет обагрён и его, отца Александра, кровью. К этому многие оказались не готовы. Многие от боли надолго замолчали. Хотелось молчать и Иву. Ему, как и многим из нас, от слёз трудно было говорить. И тем не менее он нашёл в себе силы прервать тягостное молчание и написал книгу о своём друге и брате, учителе жизни и свидетеле веры. Книга Ива Амана — лучшее, на мой взгляд, из всего написанного на сегодняшний день об отце Александре Мене. Это не историческая биография, хотя в ней много истории. Это не жизнеописание выдающейся личности, скрестившей в себе множество судеб. Это даже не житие, хотя материалы для будущего жития собраны в ней тщательно. Это свидетельство встречи с человеком, который был просто христианином. Это свидетельство о свидетеле веры. Это, наконец, свидетельство самой веры, движимой любовью. "Последний раз, — пишет Ив в конце своей книги, — я встретил отца Александра в июле 1990 года. После того как он принял меня в своей маленькой рабочей комнате, он встал, как всегда, стеснённый временем. Он сказал мне “до свидания”, вернулся один раз, потом второй; он возвращался вновь и вновь, останавливаясь на пороге. С выражением лица, излучавшим сияние его взгляда и его добродушной и одновременно плутовской улыбки, он сделал рукой знак “V”, “victoria” (“победа”). Сейчас я вспоминаю этот жест как возвещение надежды, воспринятой по ту сторону смерти, как знак пасхальной победы. В действительности это были и его последние слова, сказанные публично вечером накануне его убийства: “Божья победа началась в ночь воскресения, и она будет продолжаться, пока стоит мир…”" Встреча с отцом Александром для Ива не закончилась, она продолжается. Продолжается она и для многих читателей его книги о свидетеле Христовом нашего времени.
*
Игумен Игнатий (Крекшин)
Сеется в уничижении, восстает в славе
9 сентября исполняется шесть лет со дня трагической гибели отца Александра Меня Приближается утро.
Но еще ночь. Путник отправляется в дорогу - он не берет с собой ничего, но идет с поспешностью, не оглядываясь по сторонам, ни в коем случае не оборачиваясь. Вперед и только вперед! Всем существом своим устремлен он к намеченному рубежу, и какою радостью исполняется его сердце, когда достигает он желанной цели. Жизнь человека подобна пути этого странника - иначе и быть не может. Иначе превратится она в сплошной кошмар. Ведь если жизнь эта полна одного страха и ожидания опасности, то как бессмысленна эта жизнь! И каким странным и безысходным оказывается путь, который ничем не кончается. Жизнь христианина - больше чем просто путь, это всегда восхождение в гору. В гору, которая кажется такой неприступной - так она высока. В гору, где обитает Господь, где Бог встречается с человеком, где Он открывает Себя человеку в откровении любви, в любви-диалоге, в любви-примирении, в любви Крестной. "Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, и чтобы через Него примирить с Собою все, утвердив мир кровью креста Его, примирить через Него то, что на земле, и то, что на небесах" (Ин 3,16; Кол 1,20). Всем зрением своим христианин обращен к вершине горы, увенчанной Крестом, обагренным кровью Того, Кто в последнее мгновенье Своей земной жизни произнес страшные слова: "Боже Мой, Боже Мой! Зачем оставил Ты Меня?" И вот, после этого крика, предельно выражавшего весь ужас богооставленности, Иисус воскресший вдруг произносит удивительные слова: "Мир вам!" Сколько в этих словах Воскресшего примирения с миром, сколько любви! Поэтому Крест - это не только символ страданий Того, Кто пришел в этот мир освободить его от греха и смерти, но Крест - это и символ победы над смертью, победы жизни вечной. Каждый христианин призван к несению Креста и следованию за Христом: "Если кто хочет за Мною пойти, - говорит Господь, - да отречется от самого себя, возьмет крест свой и следует за Мною" (Мф 16,24). Священник - тем более. Отец Александр Мень со всей ответственностью осознавал это всю свою жизнь, проходя свой крестный путь. Помнил он об этом и в то сентябрьское утро, когда отправился на последнюю свою литургию, ставшую его Голгофой, его крестной смертью, такой по-человечески страшной и такой перед Богом славной. В самом деле, кто мог подумать, что день его трагической гибели, 9 сентября 1990 года, принес ему - славы никогда не искавшему - славу всемирную. И вовсе не потому, что об убийстве священника, известного до этого только в узких церковных и интеллектуальных кругах в России и за рубежом, тут же сообщили средства массовой информации многих стран. И даже не потому, что стали появляться первые воспоминания и книги об отце Александре: биография Ива Амана, едва ли не лучшая из написанных о нем книг. А вскоре одна за другой на родине стали выходить его собственные книги, сборники статей и проповедей, при жизни автором так никогда и не увиденные. В жизни и смерти отца Александра вновь и вновь раскрывается тайна Воскресения, явленная Иисусом: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, принесет много плода" (Ин 12,24). Вот что сам отец Александр говорил в одной из своих лекций, которая так и называется "Пасхальная тайна Церкви", - о вечном Победителе смерти: "Христианство было тем, что было подавлено в зародыше, но вспыхнуло и воскресло. Вернее, я здесь говорю неточно - это не христианство, а Христос, они неотделимы... Его историческое уничижение было полным - настолько полным, насколько полной была Его внезапная победа. Можно сказать, что христианство есть религия смерти, которая тут же сменяется жизнью. И слова апостола Павла, которые он впоследствии говорил о себе и о Церкви, как бы показывали, насколько исполнилась жизнь Христа в жизни Его учеников: "Нас почитали мертвыми, но мы живы". Это он говорил уже тогда, и это повторялось постоянно. Только в истории Церкви были невероятные разочарования, и она много раз, казалось, была подавлена, но силой Божией воскресала столько раз, сколько торжествовали над ней ее враги, внешние и внутренние". Сила этих слов потому оказалась действенной, что для самого отца Александра жизнь была Христом, а смерть стала приобретением, со Христом соединением. Ибо Христос есть всегда Голгофа и - Воскресение. Эту тайну Воскресения, без которого, по слову апостола Павла, "проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1Кор 15,14), возвещало миру множество свидетелей веры. Свидетельство о Воскресении, вверенное Господом каждому христианину в словах "идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Мк 16,15), именно потому и остается краеугольным камнем нашей веры, что без нее теряет всякий смысл и наша проповедь, и наша вера. Только в проповеди, обращенной к миру, и рождается вера, ведь "вера от слышания, а слышание от слова Божия" (Рим 10,17). Следуя за многими мучениками и исповедниками Русской Церкви XX века, кровь свою пролившими за истину Христову, отец Александр серьезно и мужественно относился к возложенной на него миссии уже с самого начала своего служения, с конца 50-х годов, со времен очередного гонения на Церковь, совпавшего с "оттепелью", - тогда эта миссия именовалась "религиозной пропагандой" и причислялась к преступлениям чуть ли не уголовным. Помню, в момент моего первого порыва принять священство - а время это было "веселое": начало афганской войны, удушение инакомыслия, настоящая слежка за ним самим, - так вот, как бы испытывая меня, в шутку, а на самом деле всерьез, - он сказал мне о маргинальном положении духовенства в советском обществе: "Вы знаете, мы, священники, принадлежим к третьему сорту, к париям. Чем, собственно, мы отличаемся от зэков?" Говорил он тогда, конечно, о подлинном Христовом священстве. Впрочем, проповедь Царства всегда была миру неудобна. Едва ли и в наше прикровенно-лукавое время она может быть "удобна". Вся жизнь отца Александра была служением пастыря доброго - так, собственно, и называет его архиепископ Иоанн (Шаховской) в своем предисловии к его книге "Таинство, Слово и Образ" - и проповедника, обращенного к реальному миру. Он был настоящим миссионером и апостолом, сумевшим донести евангельское слово до современного человека на понятном ему языке. Трезвость служения отца Александра или, говоря словами другого свидетеля веры и мученика нашего века Дитриха Бонхеффера, его "ответственность веры", заключалась прежде всего в обращенности его проповеди к современному человеку, в его умении находить точное слово и правильную тональность для благовестия в современном мире, отнюдь не отличающемся "адекватностью", при этом вовсе не профанируя Христова благовестия. Чуждый в проповеди стилизованности и риторичности византийского стиля, так любимого сейчас особенно молодыми священниками, стиля, превращающего проповедь в холодную дидактическую формулу, отец Александр возвращается к истокам раннехристианской керигмы, радикально изменившей мир. Язык, стиль и глубину его живого слова можно было бы сравнить с вдохновенными проповедями митрополита Антония (Блума) или отца Александра Шмемана. Заметим, что проповедь его была обращена отнюдь не только к интеллигенции, как писал о нем в своем некрологе Сергей Сергеевич Аверинцев (он так его и называл: миссионер среди интеллигентов; а в России хорошо известно, сколь трудна эта миссия), но к каждому человеку - и к обычной "бабушке", и к интеллигенту тоже. Помню, как в середине 80-х годов после воскресной проповеди в одном из московских приходов к нам с другом подошла одна из тех "обыкновенных" старушек, которые до сих пор заполняют наши храмы, и сказала: "Чудная проповедь сегодня была, но таких, как у этого еврея Меня из Пушкина (замечу, что в слове "еврей" вовсе не было никакого негативного оттенка), - не услышишь". И еще: при жизни отец Александр меньше всего оглядывался назад - как тот самый путник. Казалось, что для него этого прошлого, точнее прошедшего, вовсе не существовало. Но так только казалось. Отец Александр, повторяем, далекий от стилизации прошлого, на самом деле был глубоко укоренен в христианских традициях. В написанных им книгах ясно видна его духовная связь и со святоотеческим богословием: раннехристианскими апологетами, святителями Иоанном Златоустом и Григорием Нисским, блаженным Августином и преподобным Феодором Студитом; с русскими святыми подвижниками и исповедниками веры - святителем Филиппом, митрополитом Московским, преподобным Сергием Радонежским, Нилом Сорским, Максимом Греком, Серафимом Саровским, то есть со всей традицией умной молитвы и нестяжательства, с оптинским старчеством, преемственность от которого он получил через свою мать и тетку, связанных с архимандритом Серафимом (Батюковым) и священниками Алексием и Сергием Мечевыми; наконец, со святым праведным Иоанном Кронштадтским, великим духовидцем и обновителем литургической молитвы, - именно он исцелил чудесным образом прабабушку отца Александра. Тесно был связан он и с русской философской и богословской мыслью, особенно с Владимиром Соловьевым, подобно которому он составил многотомную историю духовного пути человечества "В поисках пути, истины и жизни", и с отцом Сергием Булгаковым и Антоном Карташевым, вслед за которыми продолжил библейско-богословские исследования, и с Георгием Федотовым, с его историософской глубиной и чуткостью к социальной правде. В обращенности отца Александра к современному человеку содержится и особенность его богословского творчества. Меньше всего он сознавал себя богословом академическим, хотя был настоящим энциклопедистом - в этом достаточно убедиться, лишь взглянув на сопровождающую его апологетические труды библиографию. Прежде всего он считал себя миссионером-катехизатором, призванным к наставлению в вере людей, утративших всякие религиозные и культурные корни, - шутя он говаривал многим, что "сейчас его дело - печь черный хлеб, а вам, когда все будут сыты, - пирожные". В разговоре со мной лет двенадцать тому назад он со свойственной ему иронией сказал о преодолении в себе синдрома кабинетного исследователя, а потом - уже серьезно - о призвании проповедовать сегодня слово Божие живому человеку. Будучи русским православным священником, он был открыт наследию мирового христианства, был терпим - сохраняя верность своей Церкви - к разным путям в поисках истины Христовой. Его служение проходило в Церкви, на многие десятилетия отделенной от вселенского христианства железным занавесом советской системы. Это была миссия доверия и надежды, открытости и терпимости, единения и любви. Можно сказать, что он был подлинным - не политическим - экуменистом, свидетелем и мучеником единства разделенной Церкви, разделенной, но во Христе никогда не разделяемой, в стремлении к чему он видел основной смысл своей жизни. В этой открытости всем людям - а нужно было знать, что означает открытость в тотально закрытом советском обществе, - отец Александр следовал за апостолом Павлом, завещавшим: "Подражайте мне, как я Христу" (1Кор 4,16). Как и апостол Павел, отец Александр Мень говорил о вечности Воскресения на языке своего времени, а потому он вполне мог бы применить к себе слова апостола язычников: "Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых" (1Кор 9,22). Христос наполнял всю его жизнь - поэтому для него и не существовало прошлого: оно ему не принадлежало, всей жизнью своей он был обращен к вершине горы, увенчанной Крестом. В нашей памяти то сентябрьское утро только приближалось. А для него уже тогда наступило утро вечное... |