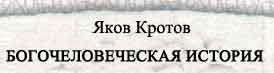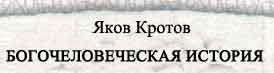"Путь": орган русской религиозной мысли под редакцией Н.А.Бердяева. Номер страницы после текста на ней. "Путь", №3. Март-апрель 1926 г. С. 14-28См. первую статью. Из общей литературы, следовавшей за Соловьевым, я возьму для рассмотрения в этой краткой статье преимущественно сочинения кн. Е. Трубецкого, П. Флоренского и С. Булгакова, так как каждый из них дал целую систему христианского мировоззрения с существенными дополнениями к учениям Соловьева или отклонениями от них. Остановлюсь прежде всего на трудах С.Н. и Е.Н. Трубецких, которые были связаны с Соловьевым долголетнею дружбою. Кн. С.Н. Трубецкой (ум. в 1905 г.) в своих сочинениях «О природе человеческого сознания» и «Основание идеализма», исследуя условия логичности знания и достоверности независимой от нас реальности, приходит к учению о сверхчеловеческом характере сознания, понимая его, однако, не как безличное гносеологическое я, а как сверхличное, соборное единство Мировой Души (собр. соч. II т., стр. 16, 298). В связи с этим он развивает учение об универсальной чувственности: пространство и время он считает формами этой чувственности, а содержания такие, как цвет, звук и т.п., независимыми от человеческого индивидуального сознания (83). Точно также условие логической связности знания, он находит в логике, как Всеобщем Разуме (164). Знание о реальности, независимой от нашего я, не сводимой к ощущению и понятию, он, как и Соловьев, объясняет внутреннею связью всех существ и оригинально применяет это учение для оправдания веры в бессмертие. Установив сверхвременный характер идеальной стороны мысли, чувства и поведения (сверхвременность смысла, истины и т.п.), он утверждает, далее, что вместе с ростом духовной жизни личности в ней растет также не только знание о сверхвременности идеальных отвлеченных начал, но и вера в личное, индивидуальное бессмертие субъекта, носителя этих начал (402). Объясняется это развитием интуиции (413), постигающей не отдельные функции, а все нераздельное существо, как абсолютно ценную индивидуальность с идеальными признаками эстетическими и нравственными (402). Высшее обоснование получает 14 эта вера на почве христианской религии, научающей видеть в ближнем «образ Христов» (406). Учение о зависимости истины от Абсолютного наиболее обстоятельно развил кн. Е.Н. Трубецкой (ум. в 1920 г.) в своей книге «Метафизические предположения познания» (опыт преодоления Канта и кантианства). Знание может быть абсолютно достоверным только в том случае, если основание его — надчеловеческое. Положение «дважды два четыре», как безусловно достоверное утверждение обо всем, «предполагает, что все действительное и мыслимое подчинено некоторому единству, иначе говоря, что есть всеединство» (15), есть абсолютное сознание, в котором все познаваемое сверхвременно определено мыслью, вследствие чего всякая истина имеет форму вечности. Отсюда не составляют исключения также и единичные суждения о любом мимолетном событии, напр. «Брут убил Цезаря». Этот парадокс «вечного со знания о временном» объясняется тем, что Абсолютное сознание есть вечное созерцание самого прошедшего и будущего в подлиннике (315), оно есть конкретная интуиция, синтез вечной памяти и абсолютного предвидения (317, 322). Наше познание возможно не иначе, как путем приобщения к Абсолютному сознанию; оно возможно как нераздельное и неслиянное единство мысли человеческой и абсолютной (316). Приобщение, это будучи неполным и несовершенным, требует отвлечения, как средства восхождения к безусловной истине. Без отвлечения человек не мог бы освободиться от случайного и субъективного порядка непосредственных данностей и не мог бы «восстановить абсолютный их синтез», т.е. «тот необходимый и объективный порядок, который объединяет их в истине» (326). Таким образом, отвлечение есть лишь средство и промежуточная ступень в знании, а цель его – «конкретное всеединство». В состав этого всеединства входит чувственное содержание восприятия, которое Е. Н. Трубецкой считает транссубъективным. Свое учение об отношении Абсолютного к миру кн. Е. Н. Трубецкой изложил в обширном двухтомном труд «Миросозерцание Вл. С. Соловьева», критикуя космогонию Соловьева и внося в нее существенные изменения в духе христианской ортодоксии. В космогонии Соловьева есть шеллингианский элемент, именно учение о первой материи, которая лежит в основе мира и вместе с тем есть «первый субстрат» Абсолютного, подобно тому как у Шеллинга основою мира служит «природа в Боге». Отсюда мировоззрение обоих мыслителей, против воли их, приобретает пантеистическую окраску: у обоих получается зависимость Бога и мира друг от друга, невозможность последовательно развить учение о свободе мировых существ, неосуществимость последовательной теодицеи. От всех этих недостатков мировоззрения Соловьева Е. Трубецкой освобождается, развивая учение о том, что творение мира «есть безусловно свободный акт – создание из ничего» 15 (I, 309). Вместе с этим иной характер приобретает у него и учение о Софии, как единстве божественных идей. Соловьев считает идею сущностью индивидуума; поэтому, говорить Трубецкой, он мыслит иногда «отношение вечной Премудрости Божьей к нашей становящейся действительности, как отношение сущности и явления» (I, 356). Сближая до такой степени божественное начало с миром, нельзя объяснить свободу индивидуума и возникновение зла. Поэтому Трубецкой понимает Софию, как начало, от века реальное в Боге, которое однако для земного человечества и «для всех овец Божьих» есть не сущность, а первообраз, норма (I, 365). Индивидуум, будучи внебожественным бытием, свободно принимает или отрицает поставленное ему в идее задание. В первом случае он осуществляет в себе образ Божий, во втором – «кощунственную пародию на него или карикатуру» (Смысл жизни, 107). Таким образом, внебожественное бытие тварей Божьих «не ограничивает Абсолютного, потому что сами в себе, вне положительного или отрицательного к нему отношения, они суть ничто» (I, 300). Согласно такому учению, Бог свободен от мира, и мир относительно самостоятелен в отношении к Богу; без этой обоюдной свободы связь между Богом и миром не могла бы иметь характера любви или (со стороны человека) вражды. Эти же основные мысли развиты Е. Н. Трубецким в книг «Смысл жизни» (Москва, 1918) и использованы для учения о христианстве, как единственной религии, «в которой ни Божеское не поглощает человеческого, ни человеческое – Божеского, а то и другое естество, не превращаясь в другое, пребывает во всей своей полноте и целости в соединении» (47). Благодаря этому соединению преодолевается противоположность запредельного и посюстороннего: в поступательном земном процессе «чувствуется подъем в иной, высший план». Эти две линии жизни, горизонтальная и вертикальная, сочетаются в один «животворящий крест» (51), потому что подъем ввысь, требующий преодоления самости, невозможен без страдания, но полнота бытия, блаженно завершающая эти временные ряды, для Абсолютного сознания, созерцающего все, как законченное целое, от века есть (118), и даже мы, люди способны приобщиться к сверхвременной высоте этой истины: в такие минуты «ощущение близости отдаленного наполняет радостью душу» (77); «противоречия, смущавшие душу и ум, снимаются разом одним радостным возгласом – Христос воскресе!» (78). Не даром для православного русского Пасха есть праздников праздник, наполняющий радостью душу в такой мере, что она хотя бы на миг освобождается от оков ограниченного земного бытия. В божественной сфере полноты бытия немаловажную роль играет преображенная телесность. Свет и звук в особенности служат совершенным средством выражения духовного смысла и энергии жизни (144). «В солнце когда-нибудь облечется подлинный источник жизни. Тогда отношение к солнцу из внешнего станет внутренним – жизнь сама станет насквозь солнечной, как ризы 16 Христа на Фаворе; и этим оправдывается вся радость о солнце, наполняющая поля и леса» (55). «В мире здешнем есть бесчисленное множество намеков на световую и вместе звуковую симфонию мира грядущего», говорить Трубецкой; в каждой твари он усматривает ночной или дневной облик: «металлическое циканье сов, протяжный волчий вой» и т.п. «представляются как бы звучащею тьмою», наоборот «солнечный гимн жаворонка» выражает «полную победу полуденного солнца и ослепительное сияние небесного круга» (138). Древнерусская иконопись, столь богатая красками, как это выяснилось благодаря современным открытиям и исследованиям, чутко улавливала связь телесного 6ытия с духовным. «София – Премудрость Божья изображается на темно-синем фоне ночного, звездного неба. Оно и понятно: София и есть то, что отделяет свет от тьмы, день от ночи». «Среди ночного звездного неба является, как Божья заря, пурпуровый лик творящей Софии. А над нею окончательная победа света изображается полдневным солнечным ликом творящего Христа. Таким образом все эти три момента – темная синева ночи, пурпур зари и золото ясного солнечного дня, которые в нашей жизни составляют обособленно, разделенным временем и постольку несовместимые переживания, в иконописи изображаются, как вечно со-существующие и как составляющая неразрывное гармоническое целого» (128). «В тройном торжестве света, звука и сознания осуществляется замысел вселенского дружества и воплощения Бога-Любви в любящей твари. Совершенная Любовь является не только в полноте славы, но и в совершенной красоте. И потому весь замысел предвечной Софии в св. Писании изображается как замысел художественный» (146). (См. подробнее об этом две замечательные брошюры кн. Е.Н. Трубецкого: «Два мира в древнерусской иконописи» и «Умозрение в красках»). В мир трудно передаваемого словами вступаю я, пытаясь в кратком очерке дать понятие о главном труде о. П. Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914 г.). Сверхчеловеческую эрудицию обнаруживает Флоренский в области философии, богословия, лингвистики и математики, но не рассудочная сторона книги, а дух ее с трудом поддается передаче. Начинает он с заявления, что православная церковность неопределима; если уж пытаться применять к ней какие-либо понятия, то разве лишь сверхрассудочные, вроде «жизнь в духе», «духовная красота» (7). Истина в точном смысле слова вообще не доступна нашему «раздробленному» разуму: Истина есть Абсолютная реальность, сверхрассудочная цельность, в которой мертвому в своей статической уединенности А, мыслимому согласно рассудочной схеме закона тожества, нет места. В истине «другое» есть в то же время и «не другое» sub specie aertenitatis (46): «потому А есть А, что вечно бывая не–А, в этом не–А оно находить свое утверждение как А» (47). Отсюда Флоренский приходит к Истине, как единой сущности о трех ипоста- 17 сях» (49). Не дискурсивный рассудок и не слепая интуиция, направленная на эмпирические отдельности, может привести к Истине; вступить в сознание она может лишь путем разумной интуиции (63), которая сочетает в себе дискурсивную расчлененность (дифференцированность) до бесконечности с интуитивною интегрированностью до единства (43). Такая единая Истина однако возможна лишь «там, на небе», а «у нас – множество истин, осколков Истины, неконгруэнтных друг с другом» (158), неизбежно антиномичных, само-противоречивых (60). Таковы, напр., многие догматические антимонии: единосущие и триипостасность Божества, предопределение и свобода воли и т. п. (164). Только «в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не рассудочно, а сверхрассудочным способом» (159). Победа над законом тожества, творческой выход из своей замкнутости в область другого и подлинное обретение в этом другом себя есть основная истина, мыслимая в догмата единосущия (тут греческое слово). Идея единосущия должна руководить нами не только при рассмотрении отношения трех Лиц Пресвятой Троицы, но и в вопросе об отношении между земными существами, поскольку они суть личности, стремящиеся осуществить идеал христианской любви друг к другу (79 с). «Предел любви – да двое едино будут» (finis amoris, ut duo unum fiant). Такая омоусианская философия личности и творческого подвига есть философия христианская, духовная. Ей противоположен рационализм, философия омусианская, допускающая лишь генерическое подобие (тут греческое слово), а не нумерическое тождество. Это философия вещи и безжизненной неподвижности (80). Любовь, ведущая к отожествлению двух существ, есть, конечно, не субъективно-психический процесс, а «субстанциальный акт, переходящий от субъекта на объект, и имеющий опору в объекте» (75); этот акт онтологически преображает любящие друг друга существа. Такова совершенная дружба; она ведет к полному единодушно двух существ (431), к созданию из них новой духовной сущности, способной к ведению тайн Царствия Божья и к чудотворению. Сам Господь Иисус Христос сказал: «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего небесного» (Матф., 18, 19). Почему это? – Потому что двое могут быть согласны друг с другом безусловно во всем только в том случае, если следуют воле Божьей, но такое согласие их есть «со-вхождение в таинственную духовную атмосферу около Христа, приобщение Его благодатной силы, оно претворяет их в новую духовную сущность, делает из двух частицу Тела Христова, живое воплощение Церкви» (421). Такая абсолютная дружба есть «созерцание себя через Друга в Боге» (458). Не только дружба между двумя существами, но и всякая подлинная любовь без участия силы Божьей невозможна: «любя мы любим Богом и в Боге» (84), так как для любви необходимо преодоление границ своей самости и выход в 18 новую действительность, в которой на всем лежит печать красоты. Опираясь на творения великих подвижников, преп. Макария Великого, Исаака Сирина и др., на записки странников и художественные произведения, Флоренский особенно сосредоточивает свое внимание на красоте того мира, в котором живет человек, вышедший из уединения своей самости путем любви. Перед умственным взором подвижника открывается «вечная и святая сторона всякой твари» (316) всю тварь он воспринимает «в ее первозданной победной красоте» (310) у него обостряется «чувство природы». «Все окружающее меня», говорить один странник», «представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет; все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божью к человеку, и все молится, все воспевает славу Богу» (317). «Аскетика», говорит Флоренский, «создает не «доброго» человека, а прекрасного, и отличительная особенность святых подвижников – вовсе не их доброта, которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку никак не доступная» (99). Красота духовная сопутствуется и просветлением плоти, созиданием святой телесности. Флоренский внимательно прислушивается к рассказам о свете, исходящем от тела подвижников: сладость, теплота, благоухание, звуковая гармония и особенно свет Фаворский – характерные признаки плоти, проникнутой Духом Святым (96—106). Целостная мировая действительность, спаянная воедино любовью к Богу и озаренная красотою Духа Святого, есть София, труднейший предмет богословского умозрения, дающий начало весьма различным толкованиям. Флоренский видит в ней «четвертый ипостасный элемент» (323), имеющий много аспектов и потому понимаемый богословами и мистиками крайне различно. Флоренский намечает следующие аспекты ее. «София есть Великий корень целокупной твари», именно «первозданное естество твари, творческая Любовь Божья» в твари. Поэтому «в отношении к твари София есть Ангел-Хранитель ее, Идеальная личность мира» (326). Рассматриваемая с трех сторон, под углом зрения трех Божественных ипостасей, София есть 1) идеальная субстанция твари, 2) разум твари, т.е. смысл или истина ее и 3) духовность твари, святость, чистота и непорочность ее, т. е. красота (349). Далее, «в отношении к домостроительству София имеет еще целый ряд новых аспектов»: как «начаток и центр искупленной твари» она есть «Тело Господа Иисуса Христа, т. е. тварное естество, воспринятое Божественным Словом» (350). Человек может получить от Духа Святого свободу и таинственное очищение не иначе, как соучаствуя в Теле Господа; в этом своем значении София есть Церковь, прежде всего в ее небесном аспекте, а затем и в земном ее аспекте, поскольку к ней принадлежат все личности, уже начавшие подвиг 19 восстановления. Поскольку восстановление Духом Святым есть целомудрие и смиренная непорочность, София есть Девство. «Носительница же Девства, – Дева в собственном и исключительном смысле слова, – есть Мариам, Дева Благодатная, Облагодатствованная Духом Святым, Исполненная Его дарами» (350). Флоренский устанавливает как бы иерархию аспектов Софии, говоря: «Если София есть вся Тварь, то душа и совесть Твари, – Человечество, – есть София по преимуществу. Если София есть все Человечество, то душа и совесть Человечества,– Церковь, – есть София по преимуществу. Если София есть Церковь, то душа и совесть Церкви,– Церковь Святых,– есть София по преимуществу. Если София есть Церковь Святых, то душа и совесть Церкви Святых,– Ходатаица и Заступница за тварь пред Словом Божьим. От святости, красоты и блаженного покоя, присущих целостному бытию в Боге, перейдем к противоположному полюсу мира, в область греха, где самость, замкнувшаяся в тождестве Я = Я, «без своего отношения к другому, т.е. к Богу и ко всей твари» (177) пребывает во тьме («свет есть являемость реальности», а «тьма» – «невидимость друг для друга», 178) и вместо полноты бытия приходит в состояние распада и приближается к метафизическому уничтожению. Флоренский описывает это состояние по личному опыту: «Однажды во сне я пережил его со всею конкретностью. У меня не было образов, а были одни чисто-внутренние переживания. Беспросветная тьма, почти вещественно-густая, окружала меня. Какие-то силы увлекли меня на край, и я почувствовал, что это – край бытия Божья, что вне его – абсолютное Ничто. Я хотел вскрикнуть, и не мог. Я знал, что еще одно мгновение, и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма начала вливаться все существо мое. Самосознание на половину было утеряно, и я знал, что это – абсолютное метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не своим голосом: «Из глубины воззвах к Тебе Господи. Господи, услыши глас мой!». В этих словах тогда вылилась душа. Чьи то руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда то, далеко от бездны. Толчок был внезапный и властный. Вдруг я очутился в обычной обстановке, в своей комнате, кажется из мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут сразу почувствовал себя пред лицом Божьим и тогда проснулся, весь мокрый от холодного пота» (205). В зачаточной форме такие переживания тьмы, отъединения и удаления от реальности характерны для некоторых форм невропатии (702). Крайняя ступень этого распада есть смерть души, смерть вторая, гораздо более ужасная, чем смерть первая, состоящая в разделении души и тела (244). Вторая смерть есть разделение души и духа (237), обособление окончательно осатаневшей «самости» от «самого» человека, т.е. от субстанциального первозданного образа Божья. Лишенная своей субстанциальной основы «самость» утрачивает творческую силу и потому «вся даль- 20 нейшая участь этой призрачной самости определяется неподвижною идеею собственного греха и огненной муки Истины» (240). «Вечное блаженство «самого» и вечная мука «самости» – таковы две антиномично сопряженные стороны окончательного, Третьего Завета» (250). «Если, поэтому, ты спросишь меня: Что же будут ли вечные муки?, то я скажу: да. Но если ты еще спросишь меня: Будет ли всеобщее восстановление в блаженстве?, то опять таки скажу: да. То и другое; тезис и антитезис» (255). В спасительной, исцеляющей форме частичное уничтожение греховной самости достигается в таинстве покаяния, когда греховное прошлое решительно осужденное покаявшимся, благодатною силою как бы отсекается от души, выбрасывается из нее и перестает влиять на дальнейшее поведение человека (220 сс). Учение Флоренского об антиномичности религиозного сознания поддерживает и разнообразно применяет о. С. Н. Булгаков. В главном своем произведении «Свет невечерний» (1917 г.), он посвящает первый отдел, озаглавленный «Божественное Ничто», обстоятельному исследованию основной антиномии трансцендентности и имманентности Бога миру. С одной стороны, Абсолютное есть трансцендентное миру Божественное Ничто (отсюда отрицательное богословие, (тут греческие слова)); с другой стороны, оно «полагает Себя Богом, а, следовательно, принимает в Себя различение Бога и мира, и в нем человека» (102) (отсюда положительное богословие (тут греческие слова)). Рассматривая учения отрицательного богословия греческих философов, отцов Церкви, германских мистиков, Булгаков сосредоточивается на глубоком различии между учением о Божественном ничто в смысле греческого a privativum и в смысле (тут греческое слово). В первом случае речь идет о принципиальной неопределимости, а во втором – о состоянии потенциальности, еще невыявленности (146); Первое учение ведет к антиномической религиозной философии, отвергающей пантеизм; второе учете есть эволюционно-диалектическая философия, ведущая к пантеизму. В первом случае Бог, как Абсолютное, совершенно свободен от мира (149), во втором случае – он необходимо связан с миром. Согласно первому учению, «одно имманентное самосознание через самоочищение и самоуглубление (Эккегартовскую Abgeschiedenheit) совершенно неспособно, так сказать, абсолютизироваться, преодолеть свою относительность, найти себя в Боге путем как бы самоутопления в Божественном океане и освобождения от всякой майи. Мири человек обожаются не по силе тварной Божественности своей, но и по силе «благодати», изливающейся в мировое лоно: человек может быть богом, но не по тварной своей природе, а лишь богом по благодати» (по известному определению отцов Церкви)» (150 с). «Подлинная религия может основываться на нисхожде нии Божества в мир, на вольном в него вхождении, приближении к че- 21 ловеку, т. е. на откровении, или, иначе говоря, она необходимо является делом благодати, сверхприродного или сверхмирного действия Божества в человеке». (151). «Можно различить три пути религиозного сознания: богопознание more geometrico или analitico, more naturali или mystico и more historico или empirico,– отвлеченное мышление, мистическое самоуглубление и религиозное откровение, причем первые два пути получают надлежащее значение только в связи с третьим, но становятся ложны, как только утверждаются в своей обособленности» (151). Здесь источник таких ложных учений, как эманативный пантеизм (Плотина, Эриугены, Я.Беме, Д.Эккегарта), акосмизм и антикосмизм (философия и религия индуизма, а в Европе – Шопенгауэра), динамически пантеизм (Гартмана и Древса), логический пантеизм (Гегеля) и др. Рассматривая их, Булгаков обращает внимание на «какую то фатальную обреченность германского гения к извращению христианства в сторону религиозного монизма, пантеизма, буддизма, неоплатонизма, имманентизма» (162). Освободиться от всех этих заблуждений можно лишь с помощью учения о том, чтопереход от Абсолютного к относительному осуществляется путем творения из ничего (181): творческий акт есть «превращение (тут греческие слова) в (тут греческие слова)», «создание общей материи тварности». «Творением Бог полагает бытие, но в небытии, иначе говоря, тем же самым актом, которым полагает бытие, Он сополагает и небытие, как его границу, среду или тень» (184). «Рядом со сверхбытийно сущим Абсолютным появляется бытие, в котором Абсолютное обнаруживает себя, как Творец, открывается в нем, осуществляется в нем, само приобщается к бытию, этом смысл мир есть становящийся Бог. Бог есть только в мире и для мира; в безусловном смысле нельзя говорить об Его бытии. Творя мир, Бог тем самым и Себя ввергает в творение, Он сам Себя как бы делает творением» (193). Таким образом, мир есть теофания и теогония. Мышление о тварном бытии приводит к космологической антиномии, стоящей на грани двух заблуждений – пантеистического монизма и манихейского дуализма (194). Антиномичность божественно-мирских начал в изображении Булгакова предстанет перед нами в еще более сложном виде, когда мы познакомимся с его учением о св. Софии. Она есть грань между Богом и миром, между Творцом и тварью, не будучи ни тем, ни другими. Она есть «Идея» Божья, предмет любви Божьей, любовь Любви. «София не только любима, но и любит ответной Любовью, и в этой взаимной любви она получает все, есть ВСЕ» (212), ens realissimum. Любовь Софии глубоко отличается от любви Божественных ипостасей: София «только приемлет, не имея что отдать, она содержит лишь то, что получила. Себяотданием же Божествённой Любви она в себе зачинает все. В этом смысл она женственна, восприемлюща, она есть «Вечная Женственность». «В этом смысле (т.е. 22 отнюдь не языческом) можно, пожалуй, выразиться о ней, что она «богиня». «Как приемлющая свою сущность от Отца, она есть создание и дщерь Божья; как познающая Божественный Логос и Им познаваемая, она есть невеста Сына (Песнь Песней) и жена Агнца (Новый Завет, Апокалипсис); как приемлющая излияние даров С. Духа, она есть Церковь и вместе с этим становится Матерью Сына, воплотившегося наитием Св. Духа от Марии, Сердца Церкви, и она же есть идеальная душа твари, Красота. И все это вместе: Дочь и Невеста, Жена и Матерь, триединства Блага, Истины, Красоты. Св. Троица в мире, есть божественная София» (213с.) Будучи выше твари, она есть четвертая ипостась, однако не участвующая во внутрибожественной жизни, так что троица не превращается в четверицу (212). В отношении к множественности мира, София есть органическое единство идей всех тварей. Каждое существо имеет свою идею, как основу свою и вместе с тем норму, энтелехию, а София, как целое, «в своем космическом лике» есть энтелехия мира, мировая душа, «natur naturans по отношению к natura naturata» (223). Таким образом можно говорить о софийности всякой твари, имея в виду положительную сторону ее; однако есть у твари и другая сторона, низшая «подставка» мира, материя; как ничто (234), творческим всемогуществом поднятое на степень (тут греческие слова), потенции, стремящейся воплотить в себе софийное начало (242). Такая первозданная софийная «Земля» (кн. Бытия) есть «та Великая Матерь, которую издревле чтили благочестиво языки: Деметра, Изида, Кибела, Иштар. И эта земля есть в потенции своей Богоземля; эта матерь таит в себе уже при сотворении своем грядущую Богоматерь, «утробу божественного воплощения» (240). Проблема воплощения, пронизывающая собою все христианское мировоззрение, требует различения понятий материальности и телесности. Сущность телесности Булгаков видит в «чувственности», как особой самостоятельной стихии жизни, отличной от духа, но вместе с тем ему отнюдь не чуждой и не противоположной» (249). Она отлична от воли и мышления, не доступна никакому логизированию и может быть лишь констатирована в ощущении. Телесность есть основа реальности; поэтому даже идеи, принадлежащие к умопостигаемому миру Софии, должны быть конкретно окачествованы телесностью (возможны тела различного утончения, «астральные, ментальные, эфирные» и т.п.). «Духовная чувственность, ощутимость идеи, есть красота. Красота есть столь же абсолютное начало мира, как и Логос. Она есть откровение Третьей Ипостаси, Духа Святого» (251). «Красота есть безгрешная святая чувственность, ощутимость идеи. Красоту нельзя ограничивать каким-либо одним чувством, напр. зрением. Все наши чувства имеют свою способность ощущать красоту: не только зрение, но и слух и обоняние, и вкус, и осязание» (252) Ни материя, ни телесность, как чувственность, не суть зло. Вообще первозданный мир не содержит в себе никакого зла; однако, он находится в состоянии детской незавершенности: перед ним стоит задача: «актуализации своей софий- 23 ности». Зло есть отклонение от этого пути, результат тварнаго своеволия, пытающегося актуализировать лежащее в основе мира ничто, пользуясь силами бытия; таким образом, оно есть внесофийный или антисофийный паразит бытия(863). Для такого «отравленного бытия» смерть, т. е. возвращение «в землю» с надеждой на воскресение и «жизнь будущего века» есть, не бедствие, а благо (262). Это воскресение и преображение всей твари связано с воплощением Бога-Слова в человеке Иисусе Христе. Таким образом человеку принадлежит центральная роль в жизни мира. Это объясняется тем, что человек сотворен по образу Божью, он есть личность, ипостась, не исчерпываемая никаким определением; поэтому человек «есть одновременно тварь и не-тварь, абсолютное в относительном и относительное в абсолютном» (278). Будучи невыразим ни в каком определении, человек стремится к абсолютному творчеству по образу Божью, но своими силами не в состоянии осуществить совершенное творение, шедевр (279). Освободиться от «томления неабсолютной абсолютности» он может лишь путем подвига любви-смирения (280), путем причастности Небесному Человеку, Адаму Кадмону; в котором осуществлено соединение Бога и человека. Небесный Человек «объемлет в себе все в положительном всеединстве. Он есть организованное все или всеорганизм» (285). «В своем душевном всеорганизме человеческий дух, обрел и опознал все живое. Вопреки дарвинизму, человек не произошел от низших видов, но сам их в себе имеет: человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения. В нем можно найти и орлиность, и львинность, и другие душевные качества, образующие основу животного мира, этого спектра, на который может быть разложен белый цвет человечества» (286). Отсюда уясняется относительная правда тотемизма и становится понятным соединение человека и животного в образах богов в египетской религии (286). Здесь наблюдается один из многих случаев того, что Булгаков называет «мистическою зрячестью» язычества, которое видит «богов» там, где нашему «научному» сознанию доступны лишь мертвые «силы природы» (326). Вообще «язычество есть познание невидимого через видимое, Бога через мир, откровение Божества в твари». «По своему объему оно многомотивнее, а по заданию шире не только Ветхого, но и Нового Завета, поскольку и этот последний содержит еще обетования о грядущем Утешителе. Язычество имеет в себе живые предчувствия о «святой плоти» и откровении св. Духа. (330). Нельзя не отметить также религиозной истины, содержащейся в почитании божественного материнства язычеством. «Близость между Изидой, плачущей над Озирисом, и Богоматерью, склоненной над Телом Спасителя» (332), не смущает Булгакова; наоборот, он полагает, что проблема женской ипостаси в божестве есть тайна, которая еще не подверглась в христианстве надлежащему обсуждению (331). Однако эти прозрения язычества ошибочно облекаются в форму пантеистического натурализма, тогда как христианство 24 утверждает основную антиномию религиозного сознания: «неразрывное двуединство трансцендентного и имманентного» (339). Идеал христианства, Царство Божье, не может быть осуществлен в пределах земной жизни и земной общественности. После грехопадения человеком «овладели похоть знания, получаемого помимо любви к Богу и богосознания, похоть плоти, ищущей телесных услаждений независимо, от духа, похоть власти, стремящейся к мощи, помимо духовного возрастания». Человек «поддался в своем отношении к миру соблазну магизма, вознадеявшись им овладеть помощью внешних, недуховных средств» (353). В свою очередь мир оказывает противодействие попыткам овладеть им. На почве этого разъединения между человеком и миром возникает необходимость труда и хозяйственной деятельности человека, имеющей характер серой магии, в которой «неразъединимо смешаны элементы магии белой и черной, силы света и тьмы, бытия и небытия» (354). Для этого двойственного мира характерен антагонизм между хозяйственным трудом и художественным творчеством: «искусство относится к хозяйству свысока и презрительно за его расчетливый утилитаризм и творческую бескрылость, а хозяйство покровительственно смотрит на искусство за его мечтательное бессилие и невольную паразитарность пред лицом хозяйственной нужды» (356). Идеальное единство деятельностей достигается путем искусства жизни, преображающего мир и создающего жизнь в красоте. Такое действенное искусство Вл. Соловьев неправильно назвал теургиею, богодейством. В действительности оно есть сочетание «теургии и софиургии, т.е. совместное действие нисхождения Бога к миру и восхождения человека к Богу» (372). «Красота спасет мир», сказал Достоевский. Эта подлинная красота есть Преображение мира, софиургия, которая может совершиться «лишь в недрах Церкви, под живительным действием непрерывно струящейся в ней благодати таинств, в атмосфере молитвенного воодушевления» (388). Это завершение творения мира совершается не в плоскости земной истории, а в новом эоне: «цель истории ведет за историю, к «жизни будущего века», а цель мира ведет за мир, к «новой земле и новому небу» (410). Поэтому «неудачи истории» благодетельны: они исцеляют от опасных увлечений идеею человекобожия или народобожия или многобожия, от веры в гуманитарный прогресс, движущею силою которого является «не любовь, не жалость, но горделивая мечта о земном рае» (406). Мечты о земном рае, о создании идеальной общественности в условиях земной относительной жизни, особенно те, которые связаны с отрицанием религиозных основ бытия, подвергнуты уничтожающей критике во многих произведениях русской литературы,– у Достоевского, Е.Н. Трубецкого, Булгакова, Бердяева, Карсавина, Алексеева. Ценное завершение этой критики дано в обстоятельных 25 научных и философских трудах проф. философии права П. И. Новгородцева –«Кризис современного правосознания» (1909 г.) и «Об общественном идеале» (I изд. 1917 г.). П. И. Новгородцев констатирует характерное для нашего времени «крушение веры в совершенное правовое государство», крушение веры в социализм и анархизм, вообще «крушение идеи земного рая». Не ограничиваясь установлением этого факта, Новгородцев показывает, что «антиномия личного и общественного начала» не устранима в пределах земного бытия: «гармония личности с обществом возможна лишь в том умопостигаемом царстве свободы, где безусловная и всепроникающая солидарность сочетается с бесконечностью индивидуальных различий. В условиях исторической жизни такой гармонии нет и быть не может» (Об общественном идеале. 3 изд., 141). Поэтому в историческом процессе при построении общественного идеала «исходным началом должна быть признана свобода бесконечного развития» личности, «а не гармония законченного совершенства» (25). Относительной правды достижений современного правового государства, а также исканий социализма и анархизма Новгородцев не отвергает, но задается целью выяснить несоизмеримость их с идеалом абсолютного добра. Сравнивая между собою рассмотренные системы русских философов, нельзя не отметить различия между Вл. Соловьевым и братьями Трубецкими, с одной стороны, и Флоренским и Булгаковым, с другой стороны. Первые, вступая в область мистической интуиции, выражают содержание ее в форме, свободной от противоречий; вторые, наоборот, настаивают на неизбежной антиномичности человеческого разума. Не следует однако преувеличивать это различие. Несомненно, такие предметы мистического созерцания, как Абсолютное, Троица, София, Церковь, принадлежат к области металогического, т. е. к той сфере, которая не подчинена закону тожества и противоречия. Из этого однако не следует, будто мета логическое – противоречиво, будто оно нарушает закон противоречия; к составу его закон противоречия просто не имеет отношения, вроде того, как геометрические теоремы не применимы к чувственному содержанию звука, аромата и т.п. Флоренский и Булгаков устанавливая противоречащие суждения об этих предметах, оговариваются, что таково выражение истины лишь в человеческом разуме, поврежденном грехом. Возможно, что они слишком принижают человеческое знание, если принять во внимание, что, напр., кн. Е. Н. Трубецкой, высказывая по содержанию нередко те же учения о горнем мире, выражает их не в антиномической форме. Сторонников «мистического алогизма» он упрекает в том, что они недостаточно освободились от влияния Канта в вопросе о свойствах разума, пытающегося решать метафизические проблемы. Общий характер всех рассмотренных систем тот же, что и у Соловьева: это – конкретный идеал-реализм. В составе мира учтена и реальная, и идеальная 26 сторона, и притом обе поняты, как конкретные целости, неисчерпаемо содержательные, несложимые из отвлеченных моментов. В области реального религиозные основы подведены также и под физическое бытие. Отсюда является повышенная восприимчивость к красоте не только духовной, но и телесной. Отсюда вытекает также требование христианской культуры не только духа, но и тела. Отсюда же вытекает принятие в состав мировоззрения учений, кажущихся «ненаучными» тем, кто абсолютирует законы физики. Наконец, отсюда же получается оправдание тех сторон православного культа, которое обозначаются иногда неудачным термином «религиозный материализм». Сначала и до конца у русских религиозных мыслителей подчеркнута мысль, что христианство не сводится только к морали, что сущность христианства есть сам Богочеловек, Иисус Христос, а приняв Его, как Бога и человека, нельзя не прийти к своеобразной мистической метафизике, разработкою которой и занята русская литература. На первый взгляд может показаться, что проблемы, исследуемые русскою религиозною философиею, имеют чисто теоретический характер и лишены всякого практического значения. Между тем это неверно. Всякая деталь религиозной метафизики ведет за собою практическая следствия и разрабатывается именно в виду своего практического значения. Так, русские мыслители, развивая учение о проникнутости всего мира Богом, в то же время старательно отмежевываются от пантеизма. Это отчетливое усмотрение грани между Творцом и тварью стоит в связи с характерною для восточного православия высокою оценкою христианской добродетели смирения. Отсюда решительная борьба против всякого обоготворения человека, народа, определенного социального строя и т. п., вообще против абсолютирования относительного бытия. Все земное оценивается с точки зрения идеала всецелой полноты бытия в Боге на основе совершенной любви к Богу и тварям. Сочетание христианского идеала с христианскою метафизикою может иметь выдающееся практическое значение именно в наше время. Человечество стоит на пути к расширению не только своего знания, но и своих способностей действования в области еще неизведанных сфер бытия. Явления телепатии, телекинеза (передвижение предметов на расстоянии), материализации становятся уже предметом научного исследования. Различные виды оккультизма привлекают к себе внимание все расширяющихся кругов общества, которые начинают покидать плоский, но трезвый материализм и усваивают иногда фантастические учения о мире. От теорий сторонники этих учений все настойчивее переходят к практике, к воспитанию в человеке новых способностей. Между тем всякое расширение жизни связано новыми соблазнами и новыми видами расстройства гармонии душевной жизни. В особенности можно опасаться, что свои новые знания человек использует прежде всего для утонченного хищничества. Лучшим средством 27 борьбы с таким злом служит гармоническое воспитание души на основе христианского идеала и проверка единоличных достижений соборным разумом и опытом Церкви. Религиозное мировоззрение влияет не только на индивидуальные отношения людей друг к другу, но и на социальное строительство. Какое значение может иметь русская религиозная философия в этом направлении? Вл. Соловьев увлекался идеею христианской политики, которая ставила бы задачу глубокого преобразования общества во имя социальной справедливости. В основе современного безрелигиозного гуманизма, отвергающего сверхчувственный мир, он склонен все же видеть подлинную любовь к ближнему, непоследовательно сочетающуюся с материалистическим мировоззрением. Печальный опыт двух русских революций привел преемников Соловьева к убеждению, что безрелигиозный гуманизм есть самоутверждение человека, обоготворившего себя, своеволие, которое должно привести к распаду общественности, как это давно уже провидел Достоевский. Увлекаясь отрицательною критикою и охладев к области относительного, они не выставляют никаких положительных задач общественного развития для ближайшего будущего. Поэтому легко может случиться, что реакционные силы будут пытаться использовать религиозное движение интеллигентной России; из пасти красного зверя легко попасть в когти черного зверя (см. книжечку Е. Н. Трубецкого «Два зверя»). Если эта опасность станет реальною, будем надеяться, что вожди религиозно-философского движения, чуткие ко всяким видам зла, уделят больше внимания трудной задаче выработать искусство, инстинктивно осуществляемое некоторыми государственными деятелями практичного Запада,– осуществлять относительное добро в современном социальном строительстве, не выпуская из рук руля, направляющего ладью личной и общественной жизни к Абсолютному Добру. 28 |