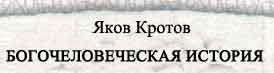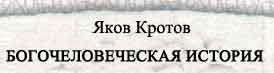СВЕТЛАНА СЕМЕНОВАСветлана Семенова. Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия. М.: Академический проект, 2000, с. 120. Кротов.
Светлана Григорьевна Семенова
23.08.1941 - 9.12.2014 Род. в г. Чита в семье военнослужащего. Окончила филол. ф-т МГУ (1964) и аспирантуру Литинститута (1970). Доктор филол. наук (1992). Работала редактором на студии “Вузфильм” (1964-65), в Военном ин-те иностр. языков (1965-68; 1970-72), в Литинституте (1972-77, зав. кафедрой иностранных языков языков), в ИМЛИ РАН (с 1988): гл. научный сотрудник (с 1998). Печатается с 1972: ж-л “Вестник МГУ”. Автор кн.: “Откуда, как разлад возник?”. М., “Знание”, 1985; Валентин Распутин. М., “Сов. Россия”,1987; Активно-эволюционная мысль Вернадского. М., “Знание”, 1988; Этика “общего дела” Н.Ф.Федорова. М., “Знание”, 1989; Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе. М., "Сов. писатель", 1989; Николай Федоров. Творчество жизни. М., “Сов. писатель”, 1990; Тайны Царствия Небесного. М., "Школа-Пресс", 1994; Глаголы вечной жизни. Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия. М., “Академический проект”, 2000. Вместе с дочерью Анастасией составила аналитическую антологию "Русский космизм" (М., "Педагогика", 1993) и готовит Полное собр. соч. Н.Федорова. Печатается в ж-лах "Знамя" (1987, № 2; 1988, № 3), "НМ" (1988, №№ 5, 12; 1989, № 9; 1995, № 9; 1999, № 9), "Лит. учеба" (1993, № 4; 1994, №№ 1,2,3.5,6; 1995, № 2/3), "ВЛ" (напр. 1990, № 1), “Утренняя звезда” (№ 1, 1994), “МГ” (1996, №№ 7, 8, 9, 10; 1997, № 1). Произведения С. переводились на англ., болг., нем., япон. языки. Член СП СССР (1986). Основатель и президент общества Николая Федорова (с 1994), открыла в его честь музей-читальню в библиотеке № 219 Юго-Западного округа Москвы. Премия ж-ла “Волга” (1989), первая премия ж-ла “МГ” (1996). Замужем за литературоведом Г.Д.Гачевым.
Источник: Словарь "Новая Россия: мир литературы" («Знамя») Список публикаций:
«Новый Мир», № 9 за 1995 г.
Воскрешенный роман Андрея Платонова.
Опыт прочтения “Счастливой Москвы” «Новый Мир», № 9 за 1999 г.
Два полюса русского экзистенциального сознания.
Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина «Знамя», № 12 за 1999 г.
Метаморфозы эроса в пушкинской поэзии. «Дружба Народов», № 1 за 2000 г.
Христос и мы.
К итогам анкеты “Что значит для вас сегодня Иисус Христос?” «Вопросы литературы», № 1 за 2002 г.
Философско-метафизические грани «Тихого Дона».
Интервью с ней: Лит. газета, №10 (5870) 13 марта - 19 марта 2002 г. http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg102002/Tetrad/art11_5.htm ФИЛОСОФСТВОВАТЬ – ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ НЕ УМИРАТЬ Пожалуй, каждый, кто хоть когда-нибудь сталкивался с именем философа Николая Федорова, знает и имя Светланы Семеновой. С начала 1970-х годов она занимается воскрешением его идей и трудов, и именно ее подвижническому, вдохновенному творчеству обязаны мы пробуждением интереса к духовному наследию самой пророческой и дерзновенной фигуры русской мысли. Известна С. Г. Семенова и своими исследованиями русского космизма, работами по евангельской истории, статьями и книгами, которые можно причислить к особому философскому литературоведению и критике. Автор десяти книг, более трехсот крупных статей, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН, президент Общества имени Николая Федорова, член Союза писателей России – наша сегодняшняя гостья. – Для начала – как вы пришли к Федорову? – Собственно, с отрочества я была, так сказать, стихийно “философствующей” особой – по жизни, в глубине себя, в общении с друзьями. И тогда уже главной душевной загвоздкой являлась для меня смерть, внутренне неизымаемым мотивом – размышления о ней. Если следовать античной формуле “философствовать – значит учиться умирать”, то это была тема философическая, такой она, пожалуй, и осталась. Только сейчас она о том, как не учиться умирать или учиться не умирать. Мысли о смерти – это мысли об онтологическом пределе нашей жизни, ее трагической отграненности. Они ведут за собой караван вечных вопросов о смысле существования, об отношении духа и материи, о начале и конце, о времени и вечности, о природе человека, о культуре, о Боге... Этим кругом и определилось в основном мое творчество. В молодости я недаром исследовала экзистенциализм, а он сфокусировал видение вещей на факте смерти: только острое осознание конца приводит к “пробуждению”, к выходу из автоматизма “неистинного” существования. Но эта философия остается на первой, отрицательной стадии переживания и осознания трагизма смертного бытия: лишь внутренне, гордо стоически стать выше губящих, непреоборимых сил и законов природы! Никакого положительного, созидательного выхода она не видит. Его дает русская религиозная мысль, Федоров (на мой взгляд, вершинное ее явление). Собственно встреча с мыслью Федорова произошла в 1972 году, когда я уже обернулась в своих занятиях от западной культуры к родной, русской. И вот в наш дом попадает книга Владимира Кожевникова о Федорове. Тогда я, как Татьяна Ларина, встрепенулась глубинами своего существа: “Это он!” Несколько месяцев сидела в Ленинке, читала два тома “Философии общего дела”, конспектировала их, высекая из чтения свои понимания. Мое, до того достаточно эстетически-игровое отношение к собственной жизни изменилось радикально – на серьезное и ответственное прежде всего перед этой мыслью, пронзившей меня как откровение эволюционного авангарда Земли, всего рода людского. Федоровское учение предстало мне ясным и стройным, как прекрасный Храм, зримо несущий богатство своего метафизического, этико-эстетического, практического послания сынам и дочерям человеческим. Буквально за одно духоподъемное лето своего тридцатитрехлетия в нашем деревенском доме в Новоселках я нанесла на бумагу свое видение этого Храма. Понадобилось более 15 лет, чтобы после бесплодных мытарств в запуганных советских издательствах книга “Николай Федоров. Творчество жизни” в 1990 году вышла в свет. А за год до этого в том же “Советском писателе” – книга “Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе”, где уже работала обретенная мной новая, федоровская оптика. – Что вы считаете наиболее важным из написанного вами? – Это прежде всего книга “Тайны Царствия Небесного”, своего рода философия бессмертия и воскрешения, созданная в конце 70-х – начале 80-х годов. Писалась она в стол, без малейшей оглядки на цензуру, внешнюю или внутреннюю, в ориентации на истину и абсолют, издана только в 1994 году. Этапной я считаю и книгу “Глаголы вечной жизни”, вышедшую к 2000-летию Рождества Христова (мой муж Георгий Гачев предлагал назвать ее “Жизнь, дела и слова Иисуса Христа – день за днем”). В ней я попыталась соединить святоотеческую традицию евангельской экзегетики с активно- христианским взглядом русской религиозной философии, по-новому высвечивающим события, жесты, слова священной истории, суть евангельского задания человечеству. Из последних работ – двухтомную “Метафизику русской литературы”, сверстанную в издательстве “Университетская книга”, но вставшую пока по банальной финансовой причине. – Кстати, есть ли у вас свой подход при анализе литературы? – Пожалуй, да. По методу и “Метафизика русской литературы”, и недавно изданная “Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия” – своего рода литературно-философская герменевтика в ее исконном значении искусства истолкования и понимания. Задача в том, чтобы выявить остро-индивидуальный очерк творческого лица писателя, глубинное ядро его экзистенции и мировидения прежде всего через вчувствование (вживание) в интимно-внутренние слои его текста, из всматривания в поэтику творца, во множество уникальных, странных, ошарашивающих черт и деталей его художественного мира. – Вернемся к Федорову. Вспоминаю, каким невероятным событием было появление тома избранных его Сочинений еще в советское время, в 1982 году в издательстве “Мысль”. Не могли бы вы рассказать о судьбе выхода этой книги в свет? – К концу 1970-х годов, после десятилетий полного замалчивания федоровских идей, создалась новая ситуация для их восприятия как увлекательной духовной альтернативы официальной идеологии. Удалось выпустить целый сноп статей и в столичной печати, и в провинциальных журналах, где око редактуры и цензуры не было столь бдительным. Каждый год в самых различных аудиториях проходили федоровские, “огласительные” вечера, собиравшие огромную аудиторию, где звучали невозможные в печати речи и созидалась уникальная по духовному накалу атмосфера. Обычно потом следовали санкции, но следующее мероприятие перекочевывало в новое, неожиданное место... Именно на этом гребне разбуженного общественного интереса к учению “всеобщего дела” возникла идея издания. Насколько мне известно, конкретным ее автором был Вадим Кожинов, он и предложил Арсению Гулыге, только что возглавившему тогда редакцию “Философское наследие” в “Мысли”, прорвать официально допустимый революционно- демократический канон русской философии изданием Федорова. Мол, начать с него будет легче, уже широко прошел звон про предвосхищение у него идей освоения космоса – вот и космонавты помогут! Слава Богу, сами тексты Федорова были фактически неизвестны издателям, пока я не представила их в уже готовом виде с предисловием и комментариями. Вот тут-то предварительный энтузиазм сменился глубоким удручением: как это печатать?! Таких по тем временам невозможностей, религиозных, философских, пророческих, даже актуально-геополитических, такой странно-удивительной – на века – рефлексии над современной цивилизацией, ее глобальными конфликтами и проблемами не ожидал никто! Препятствий, устных и письменных доносов наверх, разбирательств, изощренных хитростей поднялось несчетно. Жертвенным агнцем, отвлекшим сугубое внимание от основного состава текста (где, кстати, впервые для советского издания было напечатано с большой буквы не только слово Бог, но и все производные от него), легло мое пострадавшее предисловие, но чудо выхода Федорова все же состоялось. Правда, тут же последовал сокрушительный разгром этой проскочившей “идеологической диверсии”, а потом уже более тихий пролонгированный погром: арестовали часть тиража, из всех рукописей в издательствах вымарывалось само упоминание о Федорове, полетела моя книга о нем, уже объявленная к изданию в “Современнике”... – Насколько мне известно, в последние годы выходило полное издание трудов Федорова, к которому вы имеете прямое отношение. Как было на этот раз? – Еще более прямое отношение к этому четырехтомному изданию, включившему в себя и дополнительный пятый том, имеет моя дочь Анастасия Гачева: она проделала колоссальную работу по обработке неизданного наследия мыслителя, его тщательному комментированию. Получилось не только фактически полное научное собрание сочинений и писем Федорова, но и уникальный исследовательский компендиум, поднявший огромные пласты новых знаний о мыслителе, его эпохе, связях с великими современниками, который предстоит еще осмыслять, возможно, не одному поколению читателей. – О Федорове, его идеях, его влиянии на русскую литературу и культуру вы написали не одну книгу, а могли бы вы выразить суть его мысли буквально в нескольких фразах? – Федоров называл свое учение активным христианством, и его главный замах – делать религию, по Христову завету: “Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит” (Ин. 14:12). А дела эти, как мы помним, обнимали весь круг власти над смертоносными силами: утишение стихий, исцеление больных, воскрешение. Человек, созданный по образу и подобию Божию, призван осознать себя активным орудием осуществления воли Божией в мире, стать соработником Творцу в реализации Его основных, метафизических обетований: истребления “последнего врага” – смерти, преображенного восстания прежде живших, нравственного очищения от скверны прежних преступлений и грехов, творческого претворения мира... Такой религиозно-практический идеал соответствует ноосферному видению русского космизма, где человек – пока вершина цефализации, т. е. закономерности все большего возрастания сознания в ходе эволюционного развития, – открывает этап эволюции уже сознательной, активной, преображающей природу мира и его самого. – Аким Волынский, известный эстетик и критик, писал, что “рождением и жизнью Федорова оправдано тысячелетнее существование России”. А мыслимо ли сейчас Общее дело? Или это Дело, как всегда, отсылается в прекрасное далёко? – Есть у нас такие отчаявшиеся пессимисты-интеллектуалы, даже среди почвенников и патриотов, которые полагают (с трагической горечью, разумеется), что Россия может испытать участь какой-нибудь Древней Греции или Рима – оставить миру свою великую литературу и культуру и размыться, рассеяться в политических, этнических стихиях... Я так не думаю: она и выживет, и возродится, хотя извивы, судороги возможны еще долгие, во всяком случае, в сравнении с короткой человеческой жизнью. Месторазвитие России, ее континентальная котловина прирождена именно этому народу, точнее, народам, ее населяющим. Но даже если представить себе первый, на мой взгляд, неоправданно-панический вариант, федоровское учение останется самым высоким дерзновением Земли, высшим спасительным идеалом. К нему не сможет не прийти род людской, набивший себе жестокие синяки и шишки на ложных, отрицательно-педагогических путях, если захочет выжить и выйти на новую роль в мироздании. И все же я полагаю, что Дело это не просто когда-то начнется, а что оно никогда и не прекращалось: на него работает все, что работает на Жизнь, Память, добрую Власть духа над материей... Недаром же в Федоровских чтениях и семинарах, проходящих уже более двух десятков лет, участвуют люди самых разных специальностей: литераторы и философы, историки и журналисты, богословы и культурологи, биологи, экологи, геронтологи, физики и инженеры, педагоги и психологи, библиотекари и музейщики, художники и искусствоведы... Дело борьбы со смертью, этойглубинной причиной зла в человеческой природе, воистину всеобщее, только оно, хотя бы теоретически, несет в себе потенцию объединить всех людей, поголовно смертных. – А почему вы видите в смерти основное зло человека? – Отвечу коротко, в расчете на то, что каждый заглянет в себя и поймет, что я имею в виду. Вспомним интимное, метафизическое признание Лермонтова: “Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи”. Быть смертным и единственным в природе осознавать свою смертность есть такой, казалось бы, невозможный для существования живой, ходячий, трагический парадокс, что он должен в конце концов или самоуничтожиться, или разрешиться в новое бессмертное, божественное качество. – Каковы формы проявления этого парадокса, того же страха смерти, скажем, на телевидении, мощном трансляторе массовой культуры? – Психологи уже исследовали механизм переноса подсознательного страха смерти с себя на другого. Этот сдвиг остро обнажает себя в садистических актах, но он же на деле широко проявляется в самых разных эксцессах ненависти, жестокости, убийства, сотрясающих межчеловеческие, межнациональные, межгрупповые отношения... “Идеал” ублажения всех рецепторов и чувствилищ – на краткое время живота, – культивируемый обществом потребления (правда, его блага наш нищий, озлобленный зритель лакает разве что глазами с экранов телевизора), все же остро приправлен по-своему вылезающей метафизикой смертного человека. Это и в сверхэксплуатации факта бренности и эфемерности человека: сколько трупов оставляет любой боевик и триллер, пиф-паф и все! – нет только что улыбавшегося, чувствовавшего, действовавшего, кому-то дорогого человека! И в разверзающихся безднах эротизма и оргиазма, сплетенных в своих темных корнях с самоистребительными и садическими импульсами... А совсем изгнанное из сознания, забытое и забитое в душевное подполье чувство вины перед умершими, вольно-невольно вытесненными из жизни, извращенно трансформируется в фильмах ужасов и дурной мистики в кладбищенские ужастики, в навязчивые мотивы разлагающейся, отталкивающей плоти, в жаждущих мести выходцев с того света, вампиров... А фильмы катастроф и предвосхищений мрачного грядущего вбивают ощущение хрупкости возводимого нами на гиблой бытийственной почве мира... И что потом удивляться, когда какие-то подростки благополучной Австралии пускают фейерверками свои леса, усиливая восторг от огненного разрушения подручным удовольствием! В современной масс-культуре всеми своими потрясенными фибрами тысячи и миллионы одновременно переживают (неопознанно и смещенно) настоящие метафизические коллизии, касающиеся естества смертного человека, его кричащих несовершенств, “кризисности”, глубинного невротизма, демонических и нигилистических вывертов. Другое дело, что такая культура накрепко зацепляет человека в этом бешено крутящемся колесе, не дает ему тяги восхождения, лишает надежды, света, Бога, распяливает в неизбывных противоречиях его страстно-самостной, убийственной природы. – Касается ли подобный анализ и литературы? – Да, конечно, касается – и серьезной литературы, где стелется фоном, пронизывает насквозь, стоически-иронически обыгрывается смертное отчаяние, апокалиптическая безнадежность, а безопорное, обезбоженное бытие так и сползает в иллюзию, пустоту и ничто (последнее – ярко у Пелевина). А уж что говорить о таких культово сфабрикованных фигурах, как Сорокин или Вик. Ерофеев! Тут не просто господствует усугубленный де Сад, а по сути истерически-больное, хоть по виду и наслаждающееся, умножение мерзости и хулиганского цинизма, когда человек, этот смертный, так легко и позорно портящийся продукт, без души или надежды на спасение и преображение, “закономерно” превращается в кусок мяса, который можно в пределе расчленять, толочь, превращать в зловонную кашицу... Конечно, услужливые концептуалистские критики умеют абстрагировать параноидальные измывательства и сатанинские оргии в священных для нормального человека местах (как, скажем, в “Романе” Сорокина) в некие интеллектуальные процедуры. Но это уже из области того Большого Надувательства, которое в изобилии творится в современном изобразительном искусстве. Помню в Нью-Йорке огромные музейные залы, гигантские белые полотна с одной черной, красной, лиловой линией, пересекающей их то с одного угла, то с другого, а каким глубокомысленным предметом искусствоведческих спекуляций они являются! Вообще, в последние десять лет многие мэтры маргинального или домашне-ернического сочинительства, “похоронив” большую русскую литературу, довольно нагло устроились на авансцене нашей литературы, громогласно объявив о своей творческой гегемонии городу и миру. Особенно западному: там верят, делают репутации – при всех приятно ощутимых последствиях! К счастью, такому макабрёзному и скабрезному литературному пейзажу, похоже, приходит конец. И этому способствует сейчас “Литературная газета” – за что спасибо! – Женщина всегда считалась как бы инстанцией матери-природы, порождающей и умерщвляющей, бесконечно обновляющей мир в своих индивидуальных созданиях. Не является ли философия борьбы со смертью в чем-то антиженской мыслью? – Мне кажется, наоборот. Мужчина, точнее, мужская цивилизация, нашла способ оправдания смертной жизни через творение культуры. Здесь, в этой галерее художественных образов, картин, скульптур, книг, мелодий, человек нашел компенсацию своего преходящего существования, его прекрасный, нетленный плод. Женщина, порождая через свою утробу, свои внутренности уникальное живое существо, больше, чем мужчина, озабочена им, т. е. таким плодом, который не просто вечно пребывает в пространстве идеальной художественной вещи, а реально существует, движется, мыслит, чувствует, действует, страдает и умирает. Творчеством бессмертия для нее может быть именно творчество бессмертной индивидуальной жизни, а не бессмертного, но неживого творения искусства. Мужчины набросили на себя и мир густую символическую сеть теорий, гипотез, уподоблений, метафор, мифологий – они и помогают осмыслить окружающее и в нем действовать, они же часто запутывают и стреножат. Мужчина больше, чем женщина, ответствен и за выбор культуры как высшего оправдания смертного бытия, и за орудийное, внешне-манипулирующее отношение к миру, отбросившее человека-субъекта на непереходимую дистанцию от мира, объекта приложения его технических операций. Женщине дано на путях инстинкта выткать свое дитя из зародыша, питая его собою. На бессознательном уровне она всегда занималась и занимается творчеством жизни. Она же, рожая в муках, знает, чует своими потрохами мучительную изнанку природного бытия, и ей должна быть внятнее идея преодоления его пожирающего, вытесняющего, смертного порядка. Интересно, что женскую свою сущность я больше чувствую не внизу, а скорее вверху, в особой жизнетворческой логике, женском логосе, как выражается мой муж. – В ваших устах уже промелькнули и “муж”, и “дочь”. Похоже, у вас в семье царит дух понимания и сотрудничества. – Встреча с Георгием Гачевым уже тридцать пять лет тому назад многое определила в моей жизни. Он дал мне толчок к систематической, изо дня в день духовной работе, к выражению себя, своих идей, у него я училась воле к творчеству. Этой волей сейчас я заряжаюсь и от дочерей – филолога и философа Анастасии и художницы Ларисы. Конечно, их появление на свет и становление во взрослых людей и настоящих творцов – для меня самое главное, чему я как-то способствовала в моей частной жизни. И еще: важнейшее и отраднейшее для меня событие, растянутое во времени и уходящее, я надеюсь, в будущее, то, что Анастасия стала мне ближайшим соратником и наследником Дела. Последним же радостным жизненным происшествием стало пришествие в мир Верочки, дочери Анастасии. Полнокровно переживаю, что я уже бабушка, и молю Бога, чтобы и дальше могла на моих глазах и с моей помощью всходить, распускаться, радоваться и удивляться миру, учиться и перерастать нас новая чудесная жизнь. – Ну и к финалу, как с творческими планами? – Сейчас завершаю книгу о Михаиле Шолохове, постаралась вглядеться в его прозу совсем свежими глазами, следуя любимому определению: “филология – это божественное медленное чтение”. И уже читаю, думаю, делаю черновые наброски к заветной своей будущей философской книге о всеобщности спасения. Много работы и к приближающемуся в 2003 г. столетию со дня смерти Федорова: понемногу готовлю значительно дополненное издание книги о нем, впрягаюсь с Анастасией и в ряд других федоровских трудов и проектов. – Чтобы не завершать так уж традиционно, не поделитесь ли вы с читателями некоторыми общими пониманиями и убеждениями, к которым вы пришли за жизнь? – Пожалуйста, так, для примера и наугад: Каждый человек лучше, чем он кажется. Надо найти способы разрушительно, зло направленную волю и энергию трансформировать в благую и созидательную – без этого человечество обречено. Оттого так люблю теорию доминанты на добро Ухтомского. Следует быть внимательным, как фармацевт, к тонким и точным градациям в мысли, понимании, чувстве: чуть недосыпал или пересыпал – и получил вместо лекарства отраву. Беседовал Александр ЯКОВЛЕВ |