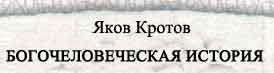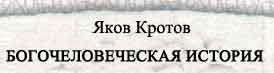Игорь Владимирович Сорокин
См. персоналии XXI в.
Музей как поцелуй. 2009.
Сорокин Игорь Владимирович родился в Саратове в 1965 году. Закончил филологический факультет Саратовского государственного университета.
Интервью с ним 2010 г. (http://www.om-saratov.ru/article/detail.php?ID=16060):
Экс-директор Дома-музея Павла Кузнецова, а ныне редактор, публицист и вольный художник Игорь Сорокин — фигура не особенно публичная. Несколько лет он жил в Москве, не так давно вернулся в Саратов, но по-прежнему принимает участие в ярких проектах, в своё время сделавших кузнецовский дом эпицентром живой культурной жизни города. Когда мы пришли в музей, Игорь помогал готовить к открытию мастерскую по изготовлению новогодних костюмов. В рамках традиционной рождественской выставки: в том числе — выставки из детских новогодних фотографий, герои которых предстают перед вечностью в образе зайчиков и снежинок. Нас Сорокин тоже встретил в костюме зайца, правда, для фото вместо «длинных ушей» надел красную шапочку:
— В прошлом году мама, которая пользуется информацией из телевизора и считает, что в столице опасная криминогенная ситуация, попросила меня не ходить в чёрной шапке. Дескать, так я похож на моджахеда. Я рассказал Свете Покровской и попросил связать мне красную шапку. (Света — замечательный человек, поэт, мать четверых детей, я у них, в семье Демидовых, можно сказать, пятый ребёнок). Она согласилась: «Давай, только она должна быть какой-нибудь особенной». Мы взяли альбом галереи Уффици и выбрали из портретов эпохи Возрождения «шапочку Данте». В недавние московские морозы Света связала мне ещё и «варежки Данте» — венозно-артериальные…
А.М. Вы сейчас больше живёте в Саратове или в Москве?
— Сейчас — в Саратове.
А.М. Вернулись работать в музей?
— На данный момент вообще нигде не работаю — ну, то есть на службу не хожу — хотя и занимаюсь разными вещами непрестанно. Одна Коломна чего стоит: там редактирую журнал Общества любителей вольных прогулок «Околоколомна» — только что сдали со Стрелковым в печать 3-й номер, запускаем с Ролдугиным новый проект «Околоколомна-TV». Это будет серия передач — каждая продолжительностью 12 минут 52 секунды. Планируется, что в новом году она будет выходить в эфире местного коломенского телевидения. Наши заказчики — Наташа Никитина и Лена Дмитриева — люди, которые создали музей утраченного вкуса «Коломенская пастила», а сейчас развивают творческий кластер «Коломенский посад». Они рассчитывают, что наши передачи могут показываться по местному телевидению, и если всё пойдёт хорошо, предложат их на канал «Культура».
А.М. Вы же ещё участвуете в редактировании альманаха «Дирижабль».
— «Дирижабль» — это давний проект. Его отец-основатель и вдохновитель Евгений Стрелков из Нижнего Новгорода. Я подключился к работе над этим изданием в 2001 году, на этапе подготовки десятого номера — мы только познакомились. Женя к тому времени утомился от проекта — ведь делал всё за свой счёт, на деньги, зарабатываемые в своём небольшом издательстве. Участниками альманаха, издаваемого с 1992 года, изначально были такие люди, как Андрей Битов, Резо Габриадзе, Леонид Тишков. Через десять лет, пройдя 90-е, Женя подустал и решил свернуть дело. Я ему предложил: «Ты передохни чуть-чуть, а я попробую собрать номер. Ведь жалко — хороший проект». Так и втянулся. Сейчас получается, стал полноправным соучастником… Даже подельником!
К альманаху сейчас подключились новые люди. В «Дирижабль» все время кто-то подсаживается, кто-то, напротив, сходит…
А.М. В итоге «Дирижабль» парит над планетой, став, по сути, международным изданием, если судить хотя бы по «финно-угорскому» выпуску.
— Тот номер, который собрал я, оказался «волжским». Потом мы поняли, что можно географический подход возвести в принцип — ведь дирижабль напрямую зависит от воздушных течений. Так Иван Миньо собрал «французский» «Дирижабль», Денис Осокин – «финно-угорский», потом надуло «морской», «балканский»… Несло туда, куда ветер.
С.С. А в Москве вы чем занимались?
— В 2007 году я получил грант фонда Форда на написание научной работы. По его условиям — хороший грант — я должен был оставить работу, чтобы целиком отдаться обучению в аспирантуре. Аспирантуру я выбрал РГГУ — кафедра истории и теории культуры. В Москве снимал квартиру, сидел-писал, много ездил — пожалуй, даже слишком — диссертацию пока так и не защитил. Грант закончился в январе, я ещё три месяца потянул, пожил в Москве, но потом понял, что как-то бессмысленно… Получается, зарабатываю только на квартиру, трачу много сил впустую. В апреле 2010 года вернулся в Саратов, который, вроде, и не оставлял — тут так много всего: родители, семья, дом, сад... Хотя и Москва теперь не отпускает.
С.С. То есть по-прежнему живёте на два города?
— Да, но постоянное место жительства у меня здесь.
А.М. Вы достаточно долго жили в Москве. На ваш взгляд, насколько изменилось культурное пространство Саратова за это время? Оно как-то развивается, деградирует, стагнирует?
— Где бы я ни был, я всё равно, получается, смотрю из Саратова. В этом смысле, я — не тот персонаж, который может адекватно оценить ситуацию.
С.С. Хорошо, тогда задам вопрос по-другому: вам нравится то, что происходит в культурной жизни Саратова?
— Что-то нравится, что-то нет. С одной стороны, радуюсь тому, что вновь выходит журнал «Волга» — тот самый, «с корабликом-парусом», с той самой командой. С другой, – печалюсь, что любимый театр всей жизни АТХ не существует — и ничто его не заменит. На филфаке ярким событием были конференции, посвящённые 1920-м: авангарду и эпохе НЭПа в провинции. Фестиваль «Саратовские страдания» окреп — вышел на серьёзный уровень. Но у него вдруг появились завистники — совершенно провинциальное явление. Вижу, как музей Федина проводит свою последовательную программу. Я сходил на несколько вечеров и понял, что раньше такое было от случая к случаю, а сегодня мероприятия проводятся абсолютно чётко, систематично и программно. Опять же, власть отняла у фединцев надежду на будущее — вместо строительства дополнительного здания, давно обещанного и крайне необходимого, на территории музейного сквера предполагается частная постройка. Город, так и не получив, теряет очередную общественную территорию…
С.С. Да, у фединского музея за последнее время, несмотря ни на что, наблюдается качественный рост. С другой стороны, мне кажется, что в музее Павла Кузнецова стало как-то скучнее… Может быть, я ошибаюсь, но как-то стало меньше ярких проектов и интересных фигур. С чем это связано? Все разъехались или нет такого двигателя, который бы это всё запускал? Ведь, когда вы были здесь постоянно, в музее Павла Кузнецова было намного живее.
— Я склонен рассматривать это как дыхание. Любой живой организм дышит — то вдохнёт, то выдохнет. Но, тем не менее, я абсолютно спокоен за музей Павла Кузнецова в том смысле, что здесь работают люди, которые всё понимают и, главное, которые чувствуют место, его предназначение. Это — Игорь Гришин и Ольга Кострюкова. Да, многого не успевают — их сегодня всего двое. Что называется, «некогда вздохнуть». Такой период. Представьте, вместо четверых — двое. Ольга Бельская, сменившая меня на посту заведующего, сейчас в прекрасном декретном отпуске. Просто жизнь — произошло временное перераспределение сил. Ожидается новый приток. На самом деле, жизнь в музее Павла Кузнецова не связана, скажем, с моим приездом или отъездом. Она, в первую очередь, складывается из энергии самого места и тех людей, которые сюда приходят. У меня нет пессимизма по этому поводу. Мне вообще кажется, что я отсюда никуда и не уходил. Оля скоро вернётся, как только немного подрастёт её дочка Даша.
Самое первое время, в начале «нулевых», когда музей только открылся, и нам не давали вообще ничего музейного (было много аргументов — дом новый, нет системы сигнализации, не установился температурно-влажностный режим и т.д.), мы просто вынуждены были работать с «немузейным материалом» — часто это было шумно, вовне, на грани. Мы должны были обращать на себя внимание — только-только отстроились, нам такой бонус дан, город на нас смотрит, страна — нам было просто необходимо жить в очень мощном ритме. Тем более у нас была вера, что вот-вот и новое чудо: мы сможем — оборудовать под галерею (точнее, выстроить заново) соседнее двухэтажное здание и создать музейный комплекс из сада, мемориального дома и собственно картинной галереи. Эта трёхчастность была задумана нами изначально, и соседний дом — он неизбежно наш. Коридор, где у нас сейчас расположен импровизированный гардероб — это будущий проход в него. Этого прохода никогда не было. Его сделали специально, когда кузнецовский дом восстанавливали, чтобы в будущем иметь прямой проход в галерею. Рано или поздно это, конечно, произойдёт — но вот когда?
С.С. Разговор этот не новый. Я знаю, что с этим домом вы бьётесь невероятное количество времени, и ничего не изменилось. В этом разрушающемся доме-призраке живут люди, власти их не расселяют…
— Те, кто там жил ранее, теперь сдают помещения тем, кому ещё хуже, кому вообще негде жить. Четыре квартиры «брошено». При этом ситуация усугубилась — теперь, чтобы отселить, надо давать ещё больше квартир! Какими-то ухищрениями количество проживающих в доме только увеличилось. Когда-то мы вели речь о девяти семьях, которые нужно переселить, а сегодня стало ещё больше: в прошлом году 12, сегодня, может быть, уже 15… В этом смысле, цель отдалилась.
С.С. А как же Радищевский музей, который позиционирует себя приятным во всех отношениях и «лучшим в провинции», как они себя называют… К примеру, директор музея Тамара Гродскова как-то в этом участвует, лоббирует отселение, к примеру, помогает вам?
— Кабы всё так было просто и зависело от одной Тамары Викторовны! Она, разумеется, может помочь в этом деле — хотя бы одним своим авторитетом. И попытки, конечно, предпринимались, но попытки разовые — главным образом, нами и инициированные. Для решительных победоносных действий нужно, чтобы она переживала эту проблему как нечто личное, жизненно важное. И чтобы не одна она, не одни мы. Это ведь должно быть нужно всем — и, в том числе, власти — и чтобы очень нужно. Увы, на данный момент звёзды смотрят в другую сторону. Это выше сил одного человека — развернуть звёзды. К тому же, Радищевский музей сегодня так широко раскинулся сетью филиалов, что сил не хватает всех любить, обо всех заботиться — и Хвалынск, и Балаково, и Энгельс, и два филиала в Саратове — не говоря о самом «Большом музее»… Получается такая разнонаправленность, все «дети» хотят ласки, все чего-то требуют, везде свои проблемы роста. Вот и нет той концентрации, той силы, которая била бы в одну точку, которая нужна, чтобы проломить брешь в чиновничьем аппарате. Причём федеральные власти, от которых зависит, собственно, реконструкция здания, Тамару Викторовну готовы услышать в большей мере, чем городские-областные, от которых зависит отселение и передача здания на музейный баланс. А отселение – сейчас главная проблема и зависит всё исключительно от чиновников. Представьте, отселять им настолько не интересно и не выгодно, что дом, давно уже треснувший по швам и ежеминутно угрожающий обрушением, несмотря на все комиссии и письма, на все хождения жильцов, статьи и акции протеста, не признаётся даже аварийным — сколько же нужно потратить сил, чтобы до них достучаться!
С.С. Но если бы Радищевский музей помог вам с созданием картинной галереи, то и ему, прежде всего, был бы бонус.
— Не стоит отделять этот музей от того.
А.М. На мой взгляд, вы всё же разделены. Есть живой музей Павла Кузнецова, с живым дыханием и живой атмосферой, и есть бюрократическая глыба, пропитанная нафталином.
— Наверное, надо учитывать возраст. Одно дело — 125 лет, другое — 10. Мы же ещё дети, которым хочется и обратить на себя внимание, и похулиганить… Хотя, надеюсь, здесь и через сто лет будет кому «зажечь». «Большой музей», как мы его называем, обеспечивает нам элементарную жизнеспособность — вместе с ним мы занесены в список «особых объектов культурного значения», другими словами, причислены к национальному достоянию. Это некая охранная грамота, в нашу пору небесполезная. И потом, не забывайте, у нас изначально разные функции. Одно — музей дидактический, призванный классифицировать прошлое и научать красоте, и другое — музей, призванный проживать жизнь своего героя — жить и творить.
А.М. Может быть, неправильным было само административное подчинение Радищевскому музею, и дом-музей Павла Кузнецова следовало организовать как самостоятельную единицу?
— Не факт. Представьте себе такую ситуацию, при которой мы бы должны были вести свою учётно-хранительскую документацию, бухгалтерию, иметь реставрационную базу — это целые отделы. А охрана! Всё это крайне затратно и обременительно. Не факт, что при автономии было бы лучше и мобильнее. Мы просто могли бы не выжить. У нас территория, на которой мы предъявляем, а все остальные важные вещи — хранение, учёт, всё материальное обеспечение — большой музей. И потом, не забывайте — работы Павла Кузнецова были переданы и хранятся именно в Радищевском. Они и послужили тому, что вообще речь когда-то зашла о создании мемориального музея.
С.С. Мне кажется, что ваша головная организация просто не нуждается в ваших проектах, ей не интересен её же филиал, выступающий неким непослушным ребёнком, infant terrible, на которого просто не обращают внимание, от него только одни неприятности.
— Есть такое. Иногда мы невыносимы. Иногда они. Вот и хочется — где шлёпнуть, где высечь, ну а где – всё же погладить и приласкать… Внимание обращают — как не обращать — родное дитя всё ж! Это отношение, собственно, вырисовалось-проявилось из истории нашего почти случайного появления на свет. Кстати, Павел Кузнецов был непослушным ребёнком до 90 лет. Например, на вопрос «как дела?» он мог на выставке в Манеже, прилюдно, повести рукой в сторону руководства Союза художников и больших начальников и сказать громко: «Сволочи!». Задавшие вопрос при этом хотели раствориться в толпе навсегда. Есть история, которая ходит как анекдот среди старых художников. Когда на одном из заседаний Московского отделения Союза художников его председатель Фёдор Богородский, в прошлом — революционный матрос, яростно вещал о постановлениях партии, а после обратился к собравшимся, есть ли у них какие-то вопросы-предложения, руку — среди полного безмолвия — поднял Кузнецов: «Я предлагаю при секции живописи открыть… кружок любителей живописи». Раздался общий хохот, и весь пафос Богородского рассыпался. Павел Варфоломеевич был абсолютно свободен. Он, к примеру, уже в пожилом возрасте, в Прибалтике, на этюдах, чтобы к нему не подходили и не досаждали любопытствующие, раздевался догола и так работал. Так что, вслед за героем Леонова в фильме «Обыкновенное чудо», мы можем сказать открыто «это не мы — это наш Павел Кузнецов».
С.С. Кстати, а зачем вам всё это было надо? Я имею в виду создание музея.
— Музей Павла Кузнецова — это ж не лично мой проект. Началось задолго до меня. В 1972 году, когда я ещё был младшим школьником, наследники Павла Кузнецова совершили великий поступок — после смерти его супруги Елены Михайловны Бебутовой они передали в дар музею имени А.Н. Радищева 340 живописных полотен Павла Варфоломеевича и 110 работ Бебутовой с просьбой о создании мемориального музея. Имена наследников следует произносить часто и помнить: Павел Михайлович Кузнецов, Ольга Михайловна Дурылина, Валерия Валерьевна Бебутова. По сегодняшним временам, если знать уровень цен (на Аукционе русского искусства MacDougall`s, прошедшем в Лондоне только что, в начале декабря, работа Кузнецова ушла за полмиллиона фунтов), можно представить себе уровень этого подарка — сорок лет назад наш город в один момент пополнился таким колоссальным наследием! Правда (эту историю помнят все сотрудники старшего поколения), когда работы, привезённые из московской мастерской, расставили по стенам и разложили на полу в старом корпусе Радищевского музея, тогдашний партийный бонза, отвечавший за культуру, произнёс, расхаживая между шедевров «А, Павел Кузнецов — как всегда на уровне самодеятельности!». Ну теперь-то время расставило и разложило, более или менее, всё по своим местам. Ещё раз повторяю — позор нам всем, что до сих пор мы не можем этим даром воспользоваться и свои богатства предъявить — себе и миру. Но тогда, именно после этого дара, потихоньку дело пошло. Сначала одна статья в газете появилась, потом другая… Медленно, но, как оказалось, верно. Всё это зрело, зрело, были люди, которые боролись, не оставляли — писатель и автор книги о Борисове-Мусатове Константин Владимирович Шилов, редактор Сергей Владимирович Катков, архитекторы Александр Сергеевич Папшев, Борис Николаевич Донецкий — тогдашнее общество ВООПИиК. Писались письма в разные инстанции, собирались подписи. Когда я пришёл в музей, а это было в 1988 году, вопрос о создании музея был уже практически решён — на уровне документов. Просто тогда совпало: дом, где жил Кузнецов, расселили не специально, а по аварийности — но всё же, не пустили под бульдозер. В советское время аварийность жилья, получается, была аргументом… В нём нельзя было жить, он стоял весь покосившийся, готовый рухнуть. В это время и удалось «пробить» наконец постановление о передаче дома и создании мемориального музея. Музей, кстати, проявил тогда расторопность.
Я же пришёл в Радищевский музей экскурсоводом, полгода всего поработал, и тут мне предложили заведование: де юре — филиалом, де факте — огромной мусорной кучей на склоне оврага. Как я сейчас понимаю, других желающих тогда не нашлось. Ну, значит, так было угодно — и Павлу Кузнецову в том числе. И все эти круги, которые были пройдены потом, в 90-е, которые не раз разошлись и собрались, видно, были пройдены не даром, все узлы стянулись не напрасно — принесли опыт, подвели к черте.
А.М. Поскольку вы на протяжении многих лет буквально отвоёвывали музейное пространство, как считаете, художник (в широком смысле этого слова) должен только «творить» в «башне из слоновой кости» или же иметь при этом свою гражданскую позицию, выраженную, в том числе, и в своих произведениях?
— Нормально и то, и другое. Бывает, что художник выходит из своей «башни» — не может молчать, а бывает, наблюдая мир, понимает, что ему нужно заниматься своим делом — так он больше принесёт пользы. Тут всё индивидуально и зависит от каждого конкретно случая.
А.М. Об этом я спросил не случайно. Ведь за последние годы у музея Павла Кузнецова была целая масса позитивных идей и проектов. К примеру, благоустройство Глебучева оврага. Игорь Гришин рассказывал, что сотрудников музея приглашали на различные заседания в правительстве и мэрии, консультировались и т.д. Однако власть, послушав рацпредложения, благополучно их хоронила …
— Считаю, тут надо быть оптимистом. Власти меняются, а идеи остаются. Когда есть энергия действия, она рано или поздно проявится, выльется в форму. Мы делали проект, как вы говорите, благоустройства Глебучева оврага, хотя на самом деле это был не проект благоустройства. Это проект, который, на мой взгляд, был призван работать со смыслами места, и в итоге — предъявить имеющийся ресурс. Когда мы в 2004 году получили грант фонда Потанина на проект «Музейная долина», все думали, что раз дали денег, то тут сразу же вырастет город-сад. Но это нереально на самом деле, потому что это были маленькие деньги — $10 000. Для одного человека, это, конечно, большие средства, но их получил не один человек. Их получил целый коллектив. Задача была — художественными средствами вскрыть проблему, максимально проявить-предъявить идею. Мы занимались тем, что ходили в экспедиции с учёными разных областей знаний, делали вылазки с художниками, проникали в самые тайные уголки «музейной долины». И географ Саша Башкатов, соавтор проекта, и многие другие участники очень много нам дали для сдвига традиционно-музейного сознания.
Но дали и мы. Человеку, который говорит на своём научном языке, бывает непросто донести свои наработки до простых людей, перевести на, что называется, общедоступный уровень. Тут мы призывали художников, которые визуализировали проблему. Кроме экспедиций по Глебучеву оврагу, у нас в арсенале был так называемый «Штаб ГО» — аббревиатуры «глебучев овраг» и «гражданская оборона» совпадают — на заседаниях штаба мы сводили наши знания, проговаривали проблемы, которые затем предъявлялись художникам для осмысления. Художник нам был необходим для перевода узких специальных знаний на язык общепонятных образов.
С.С. А река, которая текла по руслу Глебоврага и якобы называлась Тайбалык, — это же ваша идея, Игорь? Вы же, можно сказать, миф сотворили.
— Нет. Это Борис Николаевич Донецкий «раскопал» и опубликовал в своей статье «Кочующая крепость»… А мы решили расследовать, так это или нет. Другое дело, что мы «проиллюстрировали» наши поиски при помощи всяких художественных действий. Помните акцию Андрея Суздалева, когда люди пили чистую воду на коллекторе — воду из истока погубленной реки? Был выстроен такой стол-река с изгибающимся руслом — прямо на коллекторе, по краям сидело два перевозчика с античными масками на лицах — в строительных белых касках, в белых костюмах химзащиты. А на длинном столе — сотни разнокалиберных сосудов — поминки по реке. Или акция Анфима Ханыкова из Ижевска, когда из металлолома, собранного в овраге, был сварен семиметровый объект, один конец которого погружался в коллектор — колесо вращалось от потоков грязной воды и вырабатывало электричество, а второй представлял из себя уличный фонарь. Символизм очевиден: энергия грязного потока на глазах превращалась в чистый свет. Акция называлась «Нулевой километр» — как точка отсчёта для преобразования Глебучева оврага, превращения его в парковую зону. А Саша Гнутов и Саша Милашечкин — «в поисках высокой рыбы» — сначала отсняли овраг, потом на майках напечатали фотографии и текст. Майки мы сперва повесили на плечики в музее — для перелистывания — предъявили проект как книгу, а потом превратили их в листовки, раздали в овраге, и люди унесли это всё в семьи, в школы, на блатхаты. Этот проект был в социальном плане самый острый — поскольку наша раздача-«соцопрос» подтвердила: два школьника, одна молодая семья и куча людей, опустившихся на самое дно жизни.
А.М. А какое будущее у этого проекта «ГО»?
— Мы, конечно, можем продолжать по мере сил наши действия — и отчасти продолжаем — водим гостей города по Глебоврагу. Можем, будь на то воля и средства, запустить новый проект, но реальный — очевидный — результат возможен только тогда, когда интересы нас, музейных и овражных «жителей», сомкнуться с интересами города. Причём города в разных ипостасях — самих горожан, власти… Поэтому одних только наших действий недостаточно. Мы сделали путеводитель по Глебучеву оврагу, считаю, на высоком уровне — такого разработанного путеводителя нет по городу в целом, по его исторической части, насыщенной памятниками истории и архитектуры. Думали, это хоть как-то зацепит — заставит власть обратить внимание на проблему: всё же путеводитель по колоссальной свалке в самом центре города… Но, боюсь, что это для власти прошло незамеченным. Скорее, проект оказался сугубо музейным. Но не исключаю, что наши мины замедленного действия сработают рано или поздно — они заложены — энергия должна проявиться.
С.С. Вы неисправимый оптимист! В закрытую дверь стучаться не устаёте?
— Какие-то моменты усталости, конечно, присутствуют. По молодости жгли костры, не подпускали бульдозеры к памятникам архитектуры — но потом, после обещаний сохранить, их ведь всё равно сносили. В одну ночь. Если б вы знали, сколько было хождений по кабинетам, сколько было написано писем, бумаг, сколько было каких-то заседаний… Всё это просто невозможно перечислить и не хочется вспоминать. Власть хорошо приспособлена и обучена… Они знают, как увести в сторону, как положить под сукно, как размыть, пустить по кругу… Ведь и с кузнецовским так было — хождения, письма, кабинеты. Когда же мы начали неожиданные для чиновников действия, тут всё и сработало!
1998 год тому яркий пример. Объясню ситуацию. Старый аварийный дом разобрали в 1993 году, после чего началась вроде бы реставрация, а на самом деле всё постепенно замерло. Деньги дешевели на глазах — однако проект реставрации всё же был завершён, успели — спасибо самоотверженным ульяновцам, средневолжскому филиалу института «Спецпроектреставрация» и лично Мише Семёнову и Александру Николаевичу Маясову. С 1996 вообще никаких действий — сруб стоит «раскрытый», обшивка и декоративные элементы пропадают в жестяном «саркофаге» посреди двора. И вот в 1998 году, когда подступала круглая дата — 120 лет Павлу Кузнецову — у нас не было никакой возможности её отметить — стыд и позор. Все работы остановлены, перспектив — ноль. Тут всё как-то само собой и образовалось — от полной безысходности. Поскольку все регламентированные-правильные действия не срабатывали, пришлось придумывать неожиданные.
Ещё зимой начались, грубо говоря, наезды: появились какие-то люди, которые пришли, стали осматривать нижнюю террасу, на которой тогда были горы мусора, мерить, говорить, что тут будут гаражи. «Как гаражи?». Они нам: «Да ладно, ничего у вас всё равно не получится. Какой музей? Вы что, ку-ку?». Вот тебе и праздник, вот тебе и 120-летие! Земля эта тогда нам официально ещё не принадлежала, но два года хождений за ней в земельный комитет давали некоторое право. Оставалось поставить на документах предпоследние подписи, чтобы музею передали территорию нынешнего сада (дом — сад — картинная галерея, о которых я уже говорил, были заложены в проекте реставрации изначально). Выходило, что годы хождений могли стать напрасным трудом, глупостью. Выход пришёл как откровение — ясно и просто. Все автобиографии Кузнецов начинал упрямо одинаково: «Родился в Саратове в семье садоводов», — это значит, что следует в Саратове, возле дома, посадить сад. Предельно просто: если посадим, успеем до гаражей, то сможем потом и «зелёных» позвать на защиту, и вообще, кого угодно… Одно дело – народу подняться на защиту мусорки, другое — постоять за сад.
Прежде всего, надо было подготовить площадку — там были просто «монбланы»: сломанные бетонные плиты, бабины из-под кабеля, огромное дерево, проросшее сквозь строительный мусор — без техники не убрать. Пришлось блефовать. Послали приглашение принять участие в посадке сада губернатору, мэру, министру культуры… А где сажать — мусор ни с места, весна поздняя, лёд не тает, ЖКХ-шники не торопятся разгребать «вековые завалы». Кстати, очень помог тогда Султан Ахмеров. Он просто загорелся идеей, устроил прямо на мусорке планёрку — подтянул администрацию Волжского района. И вдруг всё стронулось! За три дня до назначенного срока пригнали технику, начались работы… Тут побывали и школьники, и курсанты… В итоге площадку привели в порядок. В последнюю ночь завозили грунт. КамАЗы стояли в очередь аж до «Штанов»! Представляете себе картину — просто последняя сцена «Фауста». Уже скоро рассвет, бульдозер увяз в грязи, его тянет другой, самосвал идёт за самосвалом. Рабочие на пределе. Пришлось пойти в единственный ночной магазин, купить на зарплату, полученную накануне, колбасы и водки. Наутро площадка была утрамбована настолько, что ямки под деревья долбили ломами…
В результате, всем миром, с помощью друзей, мы этот сад посадили. В местных и столичных СМИ появилось в тот год больше 60-ти публикаций. Автор одной из первых заметок накануне посадки сада даже озадачил вопросом — крупно: «Будет ли саженец от президента Ельцина?».
Ельцин, конечно, свой саженец не прислал, Аяцков не приехал, но тогдашний областной министр культуры всё же посадил дерево. В мае «Инкомбанк», которому в 1998 году исполнилось 10 лет, выделил нам 10 тысяч, на них мы сделали новый забор. Жизненно важный, поскольку жители соседнего дома, вместо того чтобы выносить мусор на улицу, всё кидали к нам — в итоге каждую весну образовывался целый «КамАЗ» помоев. Когда построили забор, сели передохнуть, реставраторы — Андрей Моченцов, Женя Горохов — говорят: «Хоть картины вешай!». А почему нет — музей, так музей! Так зашевелилась идея заборных выставок. Изначально не было никакого расчёта, всё получилось спонтанно. Потом я уже понял, что мы проделали некое шаманское действо — мы действительно играли в настоящий музей. У нас были все параметры музейной деятельности — пригласительные билеты и афиши (которые мы по ночам развешивали по городу), произведения, выверенная экспозиция. Каждую выставку делали, как положено, — были открытие, закрытие, приходила публика. Была пресса — газеты, радио, телевидение. Причём, если поначалу это были лишь заметки, то затем стали выходить репортажи почти на всех телеканалах и программные статьи. Если на первой такой выставке — Виктора Фёдоровича Чудина — было человек тридцать, то потом мы стали собирать сотни людей.
Представьте ситуацию, когда на какую-то помойку в каком-то Глебучевом овраге, по воскресеньям, в летнюю пору — приходит множество горожан. Это уже манифестация!
С.С. Сотни людей — потому что у вас всё было демократично, бесплатно и честно.
— Демократичным всё и остаётся. Но как только мы стали делать настоящие музейные и, соответственно, затратные выставки, а не спонтанные однодневные акции, естественно, встал вопрос о зарабатывании средств. Это просто неизбежно, простите.
А.М. Наверное, благодаря арт-акциям музей Павла Кузнецова стал своеобразным центром именно акционистского искусства, то что принято сегодня называть contemporary art. Что для вас современное искусство?
— Латинское «акт» переводится как «действие». Акт – это движение, поступок. Актуальное искусство несёт энергию современности. Для актуального важно вовлечение зрителя, сам процесс. Академическая традиция отчуждает зрителя от произведения, выстраивает стену между художником и зрителем, между диктующим и воспринимающим. В формате же, который применяем мы, вполне уместно каждого человека считать художником, дать ему возможность проявить себя, вовлечь.
Я считаю показательной в этом смысле выставку «Алая — алая роза — роза», когда мы превратили дом Павла Кузнецова в бутон цветка. С нами сотрудничал Миша Лежень, большой художник, каждое его произведение — сдвиг. Он убедил нас тогда, что сделать алый свет в одной комнате или даже на одном этаже — это полумера, неправда — лучше и не затеваться. Раз уж нет возможности показывать произведения художников, творивших «Алую розу» столетие назад, необходимо сам дом наполнить её светом. Входящий в это тотально алое пространство чувствовал себя «иначе» — воспринимал мир по-другому. Человеку, привыкшему к этому странному состоянию алого, когда открывалось окно, белый свет вдруг казался голубым! В этом и заключался символизм, глубинный смысл: потому что после саратовской выставки «Алая роза» 1904 года ее организатор Павел Кузнецов в 1907 году принял участие в формировании художественного объединения «Голубая роза». То есть сквозь «Алую розу» просвечивала будущая «Голубая роза»… При этом мы дали возможность каждому почувствовать себя художником — подтолкнули к тому, чтобы увидеть мир иначе — начать размышлять о свойствах света, цвета, восприятия.
А.М. Художник, работающий в сфере contemporary art, — эпатажник, формалист и позёр, или же его действия являются осознанной рефлексией на то или иное общественное явление?
— И то, и другое. Художник может считать себя «единственным и неповторимым», ни на кого не ориентирующимся и ни на что не похожим. Однако любой новатор, даже самый отъявленный, как ни странно, всё равно развивается в русле определённой традиции. И явления окружающей действительности вольно или невольно накладывают свой отпечаток.
У Саратова, к примеру, есть своя особенность, своя цветовая гамма. Когда-то я у профессора Баллода в книге «Приволжские Помпеи» встретил замечание, что на Увеке во время раскопок обнаружена керамика «девичьих тонов». То есть речь идёт об артефактах нежных цветов — розового, голубого, сиреневого. Представьте себе, через 500 лет появляются художники Борисов-Мусатов, Кузнецов, Уткин, которые точно также воспринимают мир, точно также видят его в этой гамме «девичьих тонов». Вот эта нежность, которая есть в самой природе Саратова, она и в актуальном искусстве проявлена. Если вы посмотрите акции «Жёлтой горы», то, что делает Лежень — это же очень нежно! Если вы посмотрите по городу граффити, то в большинстве своём они тоже в тех самых тонах. Есть произведения стрит-арта буквально в мусатовской гамме! Откуда, почему? Влияет место — все эти закаты и рассветы, предрассветные дымки и разымчивые пейзажи — никуда не деться. И это на том фоне, что в целом актуальное искусство, как правило, очень жёстко и агрессивно.
А.М. Раз уж речь зашла об агрессивности, как вы относитесь к деятельности арт-группы «Война» и уголовному преследованию её участников за акцию с переворачиванием милицейских машин, а также к Олегу Мавроматти, который из-за акции с самораспятием в 2000 году вынужден жить за границей, поскольку в России его, из-за нездорового внимания со стороны православных фундаменталистов, также может ждать «свидание с государством»? И можно ли их относить к разряду художников?
— Конечно, они художники. Да, бывает резкое и острое искусство, как в случае с изображением на разведённом Литейном мосту в Питере (рисунок появился в ночь с 14 на 15 июня 2010 г. — в день рождения Че Гевары. Мужской половой орган размером 65 на 27 метров сразу стал главной темой для обсуждения в Сети. По мнению участников группы «Война», таким образом они предоставили «Федеральной Службе Опасности стартовую космическую площадку для отправки во внеземные цивилизации».— Авт.). Это, безусловно, художественное действие, сдвигающее сознание. Учитывая высоту моста, можно сказать «высокохудожественное». Но то, что группа «Война» делала в зале Государственного биологического музея имени Тимирязева (групповая оргия в канун выборов президента России. — Авт.), мне кажется, у них не особо получилось.
С.С. Акции с тараканами в суде и летающими котами в «Макдональдсе» мне тоже, честно говоря, не очень. Наверное, имеет смысл говорить, что у любого художника бывают «работы» сильные … и разные.
А.М. Мне кажется, что в нынешних условиях — условиях полицейско-чиновничьего беспредела и клерикализации всех сфер жизни общества не может быть других художников, чем те, которые распинают себя на заборе и устраивают «дворцовые перевороты». Не является ли их радикальная позиция без всяких полутонов единственно честной по отношению к самим себе как к художникам и к тому, что происходит вокруг?
— Задача художника — быть впереди, на острие, глубже чувствовать, чтобы остальные могли ориентироваться — менять, двигать. Просто бывают разные уровни погружения-возвышения. Этот уровень художников — политический. И, соответственно, требует протеста. Но есть и философы.
С.С. Возмутители спокойствия и бунтари были всегда. Те же импрессионисты, тот же «Бубновый валет»…
— Чего далеко ходить. Вот мы сидим в музее Павла Кузнецова, и вы же знаете прекрасно историю с росписью саратовской церкви Казанской Божьей Матери. Находясь на острие художественной мысли того времени, Кузнецов вместе с Петром Уткиным и Кузьмой Петровым-Водкиным и в церкви попытались вольно обойтись с канонами, что вызвало скандал и их росписи по решению суда были уничтожены. А как была воспринята та же самая «Алая роза» в 1904 году? Как только ни называли потом художников, каких ярлыков ни навешивали, с чем только ни сравнивали их произведения!
С.С. Но они оставили после себя наследие, а тут проблема в том, как актуальным художникам донести своё творчество и сохранить его, пардон за пафос, для будущего.
— Это проблема форматов. Сейчас есть масса технических возможностей — фото, видео… На самом деле, любой художник работает именно со смыслами.
С.С. Вы думаете, что видео спустя годы будет нести такую же энергетику, как и сами арт-акции?
— Когда вы смотрите подлинные старые кадры хроники, они же несут энергию подлинности.
С.С. А как вы относитесь к тому, что над теми же участниками «Войны» или над Олегом Мавроматти висит дамоклов меч государственных репрессий?
— Прежде, чем делать такие акции, им необходимо было посчитать, сколько лет за всё это может светить в нашем царстве (смеётся. — Авт.)! Но тогда они скорее были бы дельцами от искусства, а не художниками. В этом смысле не особо художником мне кажется Александр Бренер — вот уж точно знает всё наперёд. Его действия какие-то низкие. Нагадить по-большому в зале импрессионистов в Пушкинском музее или в Стейделик-музеуме нарисовать на Малевиче знак доллара из зелёного баллончика — всё это просчитано. Юристы у него заранее изучают все тонкости. В худшем случае — месяц в комфортабельной голландской тюрьме. То есть тут есть расчет, а в действиях группы «Война» и Олега Мавроматти есть революционность и порыв.
Думаю, спонтанность их действий абсолютно оправдана — они искренни, и потому сила их влияния велика. С точки зрения юридической, — если найдётся такой великий адвокат, который сумеет объяснить суду, что это была художественная акция и не больше, не исключено, удастся их оправдать. Я не очень большой знаток группы «Война» и Мавроматти. Знаю о них по каким-то отдельным акциям, тут я не эксперт.
А.М. Давайте вернёмся к уличному искусству, которое деавтоматизирует восприятие городской среды. К примеру, ещё вчера тут-то и тут-то были серые стены, а теперь — целые авангардные экспозиции с социальным подтекстом. Как вы оцениваете потенциал саратовских стрит-артеров?
— В Саратове слишком много серых стен, которые могли бы превратиться во что-то красочное. Мне искренне симпатичны те ребята, которые делали акции у нас, на Валовой, 94 (здание будущей галереи музея Павла Кузнецова. — Авт.) — в рамках проекта «Дом-текст». Слышал от Игоря Петрова, что саратовцев ценят в других городах.
С.С. Мне кажется, что далеко не все граффити только украшают городское пространство. К сожалению, есть и те, которые только портят, я сейчас не имею в виду надписи из трёх букв.
— Тут важно, что человек несёт внутри себя, и что он готов предъявить миру. Если, например, у Бэнкси есть, что сказать и чему противостоять, то какой-нибудь пацан, который ещё не ориентируется в пространстве, он для начала пишет слово из трёх букв — это его первый протест. Не исключено, в будущем он станет таким же философом и фантазёром, как Бэнкси.
А.М. Видимо, всё зависит от первичного творческого импульса, о котором в своё время говорили анархокраеведы из объединения «За анонимное и бесплатное искусство», и любой человек, который себя пробует в стрит-арте, рано или поздно может стать философом и художником, «дегалеризирующим» культурное пространство.
— Так я и считаю, что каждый человек — художник! Только одних убедили в том, что они ничего не могут ещё в детском садике, других — в школе, третьих — в вузе. Тот, кто прорвался сквозь эти препятствия, тот и есть художник. У всех остальных внутри стоят некие запретные блоки, но мне кажется, что наша задача, задача музеев и музейщиков — дать возможность каждому прочувствовать своё творческое предназначение. Что касается музея Павла Кузнецова, то тут роль играет уже энергия самого места, его расположения. Ведь Глебовраг — не что иное, как разлом, тут у нас веселящий газ радон из-под земли, потому и прёт здесь не по-детски (смеётся. — Авт.)!
С.С. Вы себя ощущаете искусствоведом? Когда вы пришли работать в музей, вы представляли свою деятельность, что у вас тут будут акции, что у вас будет фактически дом для художников?
— Я — не искусствовед, я — музейщик! Я пришёл работать в музей после того, как окончил филфак СГУ. Меня всё время заносит на какие-то пограничные территории. Диплом у меня не чисто филологический: тут и краеведение, и история культуры, лишь отчасти — литературоведение. Тема дипломной работы — «Умственная жизнь Саратова 80-х годов XIX века. По материалам местной прессы». Умственная — не интеллектуальная. Интеллектуальная — это жизнь ума во всех направлениях. Умственная — чтобы преобразить мир. Термин «умственная жизнь» был весьма распространён во второй половине XIX века, его часто использовал Достоевский. Потом уже вошёл в обиход термин «интеллект», для которого всё равно — изобретать ли атомную бомбу или лекарство от рака. Интеллект работает в любом направлении, а умственная жизнь обязательно подразумевает знак «плюс», духовное развитие. Для России было знаковым, что это понятие жило, а потом, в XX веке, ушло… Так вот, о пограничности: когда я шёл в художественный музей, мне казалось, что я буду работать в области искусства, ближе к живописцам и графикам, а получилось снова на какой-то грани. С одной стороны, – строительство, с другой, – краеведение, с третьей, – актуальное искусство. И диссертация у меня на грани — между музееведением, искусствоведением, историей искусства и реальностью. Тема: «Музейный арт как опыт формирования культурного пространства». Культурология, короче. Странная такая культурология. Как жизнь.
С.С. То есть всё пришло само собой, в плане работы музея Павла Кузнецова?
— Разумеется. Мне и в голову не приходило никакое актуальное искусство — я не подозревал о его существовании. Всё было сперва очень традиционно. Сначала много лет делался проект. В 1993 году из-за ветхого состояния дом стали разбирать — чтобы не рухнул. Когда разобрали — лучше бы этого не делали! — наступили самые сложные времена, те самые «90-е», когда вообще прекратилось любое финансирование. Зарплату выдавали иногда и с опозданием, из федерального бюджета оплачивались только коммунальные услуги и охрана большого музея. Ни реставрации, ни закупок — ничего этого в 1990-е не было. Ни о каком продвижении работ ни в мусатовском, ни в кузнецовском, естественно, и речи не шло — так, ковыряние. Потому это было время пустой борьбы и хождений по кабинетам, время согласований и пересогласований — землю под сад отводили два года — на бумажку бумажка, за подписью подпись — бюрократический круговорот. Помимо этого, делали выставки в большом музее, сидели в архиве, изучали эпоху. И капали, капали, капали. А в 1998 году, как я уже говорил, всё внезапно завертелось — именно заборные выставки, по сути, заставили власть обратить внимание на нас. Дескать, что это такое творится под самым носом, какие-то толпы людей, какие-то телепередачи и статьи в газетах — что за народное движение? Когда мы с Леной Савельевой пришли на приём к Аяцкову по осени, он уже хорошо знал, кто такой Павел Кузнецов. Борисов-Мусатов, которого, как правило, узнают и любят прежде Кузнецова, был для него не так актуален. Кузнецов же засел в голову — думаю, из-за постоянных публикаций и небывалой волны общественного внимания. Аяцков, это был его первый срок, думаю, решил использовать ту мощную энергетическую волну. Мог бы пресечь, но как человек разумный не стал. Получилось, как в восточных единоборствах: мы использовали его энергию, а он — нашу. В итоге в Глебовраге, под висящим в воздухе срубом, было проведено выездное заседание правительства. Это было настоящее «шоу с губернатором»! Но это «шоу» позволило решить много вопросов — Аяцков показательно спросил со своих подчинённых, почему они не сделали то-то и то-то и несколько раз отчётливо в камеру произнёс «отвечаю за Павла Кузнецова». Это был сигнал к чиновничьей атаке, и машина завертелась — всё быстрее, быстрее. Были даже абсурдные предложения выстроить дом из кирпича в кратчайшие сроки, а потом обшить досками — мол, какая разница! Этого решительно невозможно было сделать — то, что дом деревянный, крайне важно, в деревянном доме совсем другие ощущения. Но полностью соблюсти все реставрационные тонкости при заданном темпе было нереально. Мудрый Александр Николаевич Маясов тогда посоветовал умерить пыл — отстаивать у строителей только те позиции, которые потом не исправить. Сруб, слава Богу, отстояли. Он был прав: была реальная опасность, что при резком торможении процесс остановится навсегда. Так что приходилось делать только конструктивные замечания, отстаивать только принципиальные вещи, а с остальным соглашаться. По сути, это была не реставрация, а восстановление — из новых материалов, но по реставрационным чертежам.
А.М. Как сохраняется историко-архитектурное наследие Саратова в целом?
— Саратов сейчас находится на такой грани, когда критическая масса старого города ещё есть. Саратов ещё можно воспринимать как старый город. Но город может перестать восприниматься как нечто цельное в течение очень быстрого времени. В некоторых местах это уже видно невооружённым глазом, но пока, я повторюсь, ещё есть ощущение старого города. Идеально было бы перестать толкаться на этом пятачке в несколько десятков кварталов — оставить старинную его часть в покое, привести в порядок, отдать под рекреационные нужды. Так поступают во многих исторических городах. Надо просто сменить масштаб. Есть прекрасные проекты, как сохранить историческую часть Саратова и выйти при этом с новым строительством на новые участки — ради перспективного раскрытия города, ради большого будущего. Всё упирается в деньги и узость аппаратного мышления — экономика и политика есть, волшебство и полёт отсутствуют. А идей, причём весьма продуманных и обоснованных, предостаточно. Архитектор Лариса Германовна Тарасова в недавно изданной книге многие из них предъявила. Мы, музейщики, кстати, тоже имели наглость — например, в проекте «Саратовское озеро: сакральная география» — предположить месту великое будущее.
С.С. Вы, Игорь, кокетничаете, что идея сохранения и восстановления музея Павла Кузнецова — не ваша… У нас с вами есть общий знакомый, который как-то рассказал мне, как вы с ним давным-давно шли мимо покосившегося дома, на котором висела мемориальная доска, сообщающая, что тут жил Павел Кузнецов. И вы тогда сказали, что восстановите его. И ведь восстановили!
— Может быть, и говорил. Ну и что? Повторяю — я ведь не один. Всем миром восстанавливали.А доска эта была куском фанеры, на котором крупно написано от руки — сам писалоранжевой краской – «охраняется государством». Местные жители, пользующиеся от этого полуразрушенного дома кто чем может, тогда, в начале 90-х, животы надрывали, читая.
С.С. Просто очень много людей, озвучивающих свои планы, которые так и остаются нереализованными. А вы реализовали.
— Если бы я сейчас начал рассказывать о нереализованных проектах, вы бы поняли, какой я бездельник (смеётся. — Авт.)!