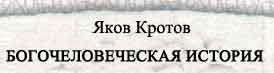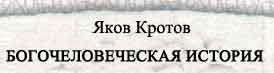Протоиерей Сергий Булгаков
Una Sancta
Основания экуменизма
Доклад на англо-русской студенческой конференции в High Leigh, 1938 г. Тема конференции -- "Возрастание в полноту". Впервые опубликован в журнале "Путь", 1938-1939, № 58, с. 3-15.
Движение, направленное к "соединению церквей", представляет собой некоторый догматический парадокс. Оно исходит из предположения, что существует единая святая Церковь, Una Sancta, и притом не как нечто только искомое, но как высшая, превозмогающая действительность -- не только идея, но и факт. В то же время оно предполагает наличие ряда церквей (или исповеданий), из которых каждая обладает атрибутом церковности, есть церковь, по крайней мере, в смысле принадлежности к Una Sancta. Последняя, конечно, не делится на части и не состоит из частей, а в то же время все их, очевидно, в каком-то смысле в себе содержит если не статически, в единой организации, то динамически, в едином бытии. Так именно изображается Церковь в посланиях апостольских: как единое Тело Христово и в то же время неопределенная множественность церковных общин, или "церквей". Никакой трудности отсюда не возникало бы и теперь, если бы, видимо, существовала только одна церковь, которая с полным правом утверждала бы себя как единую и всеобъемлющую и тем самым отрицала бы самую возможность существования Церкви за пределами этой данной организации или исповедания. Тогда различались и противопоставлялись бы между собой Церковь и не-церковь, и не могло бы быть речи о движении, направленном к объединению церквей в пределах Церкви. В известном смысле подобным же образом и стояло дело в христианстве до возникновения нового "экуменического сознания", которое упорно отказывается принять подобное упрощенное воззрение в качестве некоторой самоочевидности, но утверждает прямо противоположное. Для доэкуменического или антиэкуменического сознания единственно последовательной линией поведения является отрицание даже самой мысли об отношении к "инославию" как Церкви. Вместо того здесь является уместным только прозелитизм, стремление привлечь инославных, которые фактически приравниваются к язычникам или не-христианам, в лоно единоспасающей церкви. Экуменическая идея для такого воинствующего конфессионализма, признающего Церковь только в пределах одной конфессиональной организации, есть некоторое самоочевидное противоречие или non-sens. Он признает или только православных, или римских католиков, или протестантов в качестве Церкви. Самое имя просто "Христиан", какое усвоили себе ученики Христовы впервые в Антиохии (Деян 11: 26), для воинствующего конфессионализма вызывает отрицательно-ироническое или подозрительное к себе отношение (так звучит выражение "панхристиане" в устах римского первосвященника Пия XI в булле Mortalium animos, посвященной Лозанской конференции). Поэтому в души невольно закрадывается вопрос, не есть ли причастность экуменическому движению и в самом деле некоторый дилетантский либертинизм и недолжное попустительство, как бы измена истине ради угождения человекам? Как может быть оно осмыслено и оправдано в своем существовании и в какие нормы должно быть облечено? Этот основной и предварительный вопрос "экуменического" богословия до сих пор не имел для себя достаточного обсуждения и не находит разрешения, в особенности со стороны обеих ветвей кафолической церкви -- римской, которая официально еще держится в стороне от экуменического движения, хотя частным образом от этого воздержания уже отступает, и восточной православной, которая, хотя и не отрицает такого участия, однако еще не высказала догматического его обоснования. Поэтому "экуменическое" движение в догматическом отношении остается каким-то полулегальным и, самое большее, только терпимым, хотя и подозрительным. Разумеется, подобное отношение не может почитаться нормальным и окончательным, а потому и является вполне естественным искать для него положительного оправдания в христианском учении о Церкви, как оно излагается в Слове Божием и далее содержится в церковном предании.
Церковь, как она определяется в апостольских посланиях, имеет для себя, так сказать, два измерения: онтологическое, относящееся к ее сущности, глубине и жизненной силе, и эмпирическое, раскрывающееся в факте ее исторического существования. Поэтому различается единая Церковь и церкви, как существующие в разных местах общины. Обращаясь к первому определению, как оно дается в Слове Божием, мы совсем не находим в нем эмпирических конкретных признаков Церкви, как они даны в человеческой истории. Церковь есть премирное основание мироздания и его последняя цель ("домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге", "многоразличная Премудрость Божия", Еф 3: 9-10). Она есть пребывающее боговоплощение, как Тело Христово*), и, как пребывающая Пятидесятница, есть храм Духа Святого**).
К этому нужно еще прибавить такие мистические определения, как Невеста Христова или Жена Агнца, Град Божий, сходящий с неба на землю (Апокалипсис), как Полнота (Еф 1: 22), Слава, Царствие Божие. Самая принадлежность к Церкви определяется мерой причастности верующих ко всем этим духовным благам и высшим ценностям. Церковь есть совершенное Богочеловечество, "полнота Наполняющего все во всем" (Еф 1: 23), жизнь во Христе, стяжание Духа Святого.
Эта жизнь в Церкви, сопровождающаяся приращением тела ее (Еф 4: 16), определяется у апостола, как различие даров Духа, соответствующих различию членов Тела Христова.
"Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли -- в учении; увещатель ли -- увещевай; раздаватель ли -- раздавай в простоте; начальник ли -- начальствуй с усердием; благотворитель ли -- благотвори с радушием" (Рим 12: 4-8. Ср. 1 Кор 12: 4-30).
В этих, конечно, не исчерпывающих, но примерных лишь перечислениях мы находим, так сказать, свидетельство о реальности Церкви в человеческой жизни. Она выражается в различных дарах и в разных образах бытия в Церкви, как духовном организме, мистической реальности. Это, конечно, еще не все, что может быть сказано о Церкви, как существе мистическом. Венец этого учения составило бы учение новозаветного Апокалипсиса, а еще более -- ветхозаветного: Песни Песней, посвященной тайне взаимной любви Творца и творения, Христа и Церкви, каковая любовь есть Дух Святой. Эта любовь, собирающая многих в многоединство, соборность, есть образ Св. Троицы, Божественного Триединства, в тварном многоединстве.
Эти определения относятся вообще ко всему христианскому человечеству, соединяющемуся в частных и поместных, исторических церквах ("церкви асийские", церкви домашние и под.), помимо какого-либо ограничения или даже различения, так что единственной границей, отделяющей от церкви, является грех (например, случай коринфского кровосмесника). Этим усиленно подчеркивается вселенский, универсальный характер спасения, а следовательно, и принадлежности к Церкви. Христос пришел для спасения всех людей (Лк 2: 10; 2: 31; 30-32; Тит 2: 11; Тим 2: 4), а не одних только избранных и предопределенных, как и Дух Святой, пришедший в мир, изливается на всякую плоть (Деян 2: 17). Эта универсальность спасения распространяется чрез человека на всю тварь, которая "с надеждой ожидает откровения сынов Божиих" (Рим 8: 19 и далее до 22). Ибо последняя цель и откровение Церкви в творении, в том, чтобы "был Бог всяческая во всех" (1 Кор 15: 24-28).
Внимательно вникая в это учение о Церкви, мы находим в нем указание ряда внутренних, духовных признаков, свидетельство о наличии многих сил и даров, так же как и мистической глубины, в которой укоренено бытие отдельных церквей. Но наряду с этим мы не без изумления отмечаем и отсутствие некоторых черт, которые мы прежде всего ожидали бы здесь встретить: именно почти отсутствует все то, что относится к жизни Церкви как иерархически-сакраментальной организации, к "potestas clavium" со всеми образами ее осуществления в разных разветвлениях.
С нашим теперешним понятием о Церкви как организации или установлении, якобы непосредственно идущем от Господа, мы должны чувствовать себя беспомощными и даже смущенными, находя в Слове Божием, хотя и не противоположное, но иное понятие о Церкви. Правда, и здесь мы находим некоторые зачатки иерархической системы. Конечно, "епископы", "пресвитеры" и "диаконы" в первенствующей церкви представляют собой нечто иное, нежели наша теперешняя трехстепенная иерархия, возникновение которой относится лишь ко II в., будучи связано с установляющимся в это время порядком совершения Евхаристии, а позднее и других таинств*. Из этой евхаристической власти, которая усвояется преимущественно иерархии и относится к potestas clavium, развивается вся иерархическая структура Церкви, которая представляет собою как бы внешнюю ограду, а вместе и скелет, становой хребет тела Церковного. В апостольской церкви, где действовали еще святые апостолы, как и в век послеапостольский, вы не найдете в Слове Божием упоминания ни о разветвленной высшей иерархии, ни об епископиях и архиепископиях, ни о митрополиях и патриархиях, ни об юрисдикциях и юрисдикционных распрях.
Здесь обнаруживается как будто некий hiatus между мистическим телом церкви и исторически-иерархической организацией. Potestas clavium далее распространяется не только на организацию сакраментальной жизни, но и на охранение и блюдение правой веры и правого учения, которое постепенно облекается в систему догматов, составляющих закон веры. Во всех вероучительных исповеданиях ("символических книгах") мы находим в качестве признаков Церкви наличие правильно совершаемых таинств, иерархии (как бы ни были различны ее определения: sacerdotium или ministerium) и учения веры. (Любопытно, что первый пример такого определения Церкви подал именно протестантизм, а реформации последовала и контрреформация как на западе, так и на востоке.)
Спрашивается теперь, как же соотнести эти два определения Церкви -- мистическое, как о Теле Христовом или о Богочеловечестве, совершившемся силою Боговоплощения и Пятидесятницы, и наше теперешнее представление о Церкви как явной эмпирической организации, или как невидимое в видимом и эмпирическом? Преодолим ли этот hiatus или же на самом деле здесь имеются два несовместимых понимания Церкви? В каком соотношении находятся эти два образа Церкви -- онтологический и эмпирический, мистическое тело и организация? Объединяются ли они в некоем высшем тождестве или же сохраняют непримиримую двойственность? От того или иного ответа на этот вопрос зависит и наше разумение проблемы экуменизма. В первом случае мы утверждаем единство Церкви как Тела Христова, как жизни во Христе и в Духе Святом, для которой не существует конфессиональных границ и нет ничьей монополии. Во втором случае стремление к единению церквей в Церкви есть ложная задача, поскольку существует лишь единая истинная церковь как одна определенная иерархическая организация. Вне нее есть место только ереси или расколу, в которых нет и вообще не может быть церкви: все или ничего. Нет места светотени, полуистине, относительности, так что единственный путь к церковному единству есть прекращение самого бытия соперничающих церковных организаций, которые все должны влиться в единое стадо с единым пастырем. Остаются возможными лишь индивидуальные присоединения, которые явно не решают "экуменической" проблемы и даже ее отрицают.
Обсуждая этот вопрос по существу, прежде всего мы не можем допустить никакого разрыва между глубиной и эмпирической оболочкой церкви, поскольку и то, и другое принадлежит единому телу, относится к единой жизни. Мы не имеем права отрицать наличия церковной жизни как у отдельных лиц, так и у целых групп или организаций, исповедающих Имя Иисусово, призывающих Имя Небесного Отца и взыскующих Духа Святого. "Просите и дастся вам", "ищите и обрящете" (Мф 7: 7). И этот дар Божий есть тайна Божия, ведомая только Подающему его. На этом основании мы не имеем права сказать, что "инославные" не принадлежат к Церкви, не суть члены Тела Христова, не находятся в единении с нами, хотя и на недоступной нашему взору глубине. Осуществление видимого единения уже должно предполагать сущее, хотя еще не проявленное, не осознанное единство. Нельзя стремиться к несуществующему единству, нельзя принимать задания, которое не имеет уже для себя основания в данности.
Церковь как Богочеловечество, наряду с Божественным и нерушимым началом, содержит в себе и начало человеческое, которое подлежит истории, имеет свои исторические судьбы, подвержено историческому развитию, дифференциации и изменениям. Поэтому-то Церковь и в Слове Божием изображается как множественность местных исторических организаций, которым соответствуют притом разные образы церковности или ее типы (как это явствует из наличия семи образов церквей в Апокалипсисе).
Стороной своей, обращенной к человеческой истории, Церковь принимает в свою жизнь и начала тварной, человеческой свободы и связанной с ней относительности и даже ограниченности в каждом моменте своего бытия, поскольку она подлежит человеческому развитию. Во внешних ее судьбах отпечатлевается не только вечное божественное начало, в ней живущее, но и историческая среда со всею ее многосложностью. То индивидуальное различие поместных церквей, которое существовало изначала и обозначилось уже в различии иудео-христианства и эллино-христианства, а позднее востока и запада, все время отражалось на типах поместных церквей. Это же различие, перейдя известную ступень, приводит сначала к разногласиям, а затем к разделениям в среде единого христианства, порождая ереси и расколы. Последовательно развиваясь, оно приводит к тому многообразию его ликов и тому множеству вероисповеданий, пред лицом которого мы стоим. Различия проникают глубоко и всесторонне: они касаются иерархии, юрисдикции, таинств и богослужения и, наконец, самих догматов. Конечно, есть известная грань, с прехождением которой христианства вообще уже не остается (при отрицании веры в Богочеловечество Христа и Святую Троицу). Однако в пределах единой христианской веры, и даже при наличии общего христианского исповедания в символах веры, остается еще настолько много догматических различий, что они воздвигают практически непереходимую стену между разными исповеданиями. Последние также и в таинствах и богослужении перестают общаться между собою, как бы представляя собою уже разные религии. При этом каждое исповедание утверждает себя -- и не может не утверждать - как единое и истинное, отличия же от себя почитает отпадением от истины, заблуждением и грехом против церкви, в котором надлежит покаяться. Таким образом, логика конфессионального благочестия должна вести к самоутверждению в своей особенности, к сугубому конфессионализму, к множественности и раздроблению христианского мира. Каждое вероисповедание, утверждая свою истину, с тем большей силой отталкивается от всех других, неизбежно проникаясь духом ревнующего и воинствующего прозелитизма. Это сказывается ныне столь печально на миссионерской работе среди не христиан. Здесь именно, где мы возвращаемся как бы к самым истокам христианской истории, во всей обнаженности становится вопрос: существует ли вообще единая христианская вера, проповедь которой в свое время понесли во всю землю и концы вселенной святые апостолы, или же остались только "вероисповедания", между собою соперничающие, из которых каждое почитает только себя истинным христианством, а все остальные исповедания суть уже как бы другие религии? Замечательно, что такое конфессиональное самоутверждение существует в одинаковой мере для всех исповеданий. Оно ведет или к дальнейшему дроблению христианства, или же к агрессивному церковному империализму Рима, или вообще "романизированию", которое существует и за пределами и Римской церкви. Экуменизм же при этом естественно становится невозможностью или вероотступничеством, в лучшем случае лишь религиозным синкретизмом. И однако, вопреки этой как будто неумолимой очевидности, из недр христианского сознания поднимается этот пророчественный зов экуменизма, противящегося конфессиональной исключительности и видящего в fratres separati действительных братьев во Христе, членов Тела Христова. Та природа церковного бытия, которая трансцендентна отдельной церковной организации, хотя и лежит в ее основе, становится и ощутима, и самоочевидна, наряду с замкнутостью и исключительностью отдельной церковной организации и даже вопреки ей. Появляется чувство различения между первоосновным, ноуменальным и эмпирическим, феноменальным бытием Церкви, вместе со стремлением приблизить эмпирическую множественность к трансцендентному единству Церкви. Переводя же эту философскую формулу на язык практического христианства, мы можем сказать, что возникает взаимная церковная любовь, единение во Христе лиц, принадлежащих к разным исповеданиям. Эта любовь требует для себя осуществления и в практическом единении, которое, хотя и не может достигнуть полноты общения церковного, однако ищет для него возможного maximum-a в молитве, исповедании, взаимном познании и понимании. Возникают новые пути экуменического благочестия и экуменического богословия. Постепенно преодолеваются границы церковного провинциализма, который проявляется, впрочем, во взаимоотношениях не только разных иповеданий, но и национальных церквей в пределах единого вероисповедания ("филетизм").
Нельзя закрывать глаза на всю трудность и даже опасность этого экуменического пути, который действительно способен приводить, вместо экуменического единения, к своего рода дилетантизму и синкретизму ценою утраты жизненной и цельной веры. Эта опасность, однако, не менее реальна и для противоположного пути, который ведет к фарисейскому надмению и нехристианскому фанатизму. Опасность одинаково подстерегает на обоих путях. Трудна работа Господня.
Самый трудный и острый вопрос экуменизма состоит в том, есть ли действительный выход их этого вавилонского смешения языков, преодоление вероисповедных различий и противоречий? Есть ли он вообще немыслим и невозможен, то тем самым все экуменическое движение является ложным, обрекается на бесплодность и противоречивость. Должно сознаться, что прямого человеческого ответа на этот вопрос дано быть не может, он остается чаем лишь на путях совершающейся Пятидесятницы как церковное чудо: невозможное человеком возможно Богу. Однако для человека должно стать безусловной невозможностью мириться с христианскими разделениями, не болея ими и не ища их преодоления на путях веры, надежды и любви, для этого же надлежит в себе воспитывать своеобразный конфессиональный аскетизм, который состоит в том, чтобы не позволять себе мыслей и чувств, противящихся признанию христианства в "инославных", церковной любви к ним.
Но в то же время, и в антиномической сопряженности с предыдущим утверждением, должны мы исповедовать со всей силой истину, которая открылась нам в вере нашей. Мы, православные, должны не только исповедовать, но и проповедовать православие как полноту и чистоту веры, которая неповрежденно содержится в православном предании. Поэтому в отношениях к инославным мы не должны впадать в конфессиональный индифферентизм, для которого все вероисповедания одинаковы, напротив, мы должны различать степень удаления их от православия. Однако это отнюдь не значит, чтобы в своей жизни сами православные вполне осуществляли свое православие и были бы свободны от греха ереси жизни. Через это они могут оказываться даже менее православными, чем иные инославные, и в таком смысле от последних назидаться в православии. Православие имеет свою силу таинств и полноту их. Однако и это никоим образом не значит, чтобы другие исповедания были совершенно лишены сакраментальных даров или чтобы таинства, ими совершаемые, вовсе не имели для них спасительной силы (как учил даже блаженный Августин). Правда, инославные остаются отделены от нас в своей сакраментальной жизни (и стремление преждевременно или поверхностно преодолевать эти границы в чересчур широко и легко применяемом "intercommunion" не только не достигает цели, но даже от нее скорее удаляет). Но нам не дано мерить этого больше и меньше в силе таинства, хотя и не позволено умалять практического значения для нас этого различия. Однако, кроме сакраментальной данности ("ex opere operato") существуют еще и различный образ ее человеческого приятия ("ex opere operantis"), который может и малое принимать как великое ("по вере их будет дано им", -- выразился однажды святитель Феофан Затворник о таинствах протестантов). Но помимо этого, -- и это есть здесь самое главное -- сакраментализм как иерархическая организация таинств сам имеет для себя собственную границу. Он не абсолютен в том смысле, что им не закрываются и не упраздняются и другие, прямые пути для действия благодати Божией. Это явствует уже из апостольского перечня даров духовных, из которых ни один не связан с иерархией и чрез нее подаваемыми таинствами. Эта возможность и не-иерархически-сакраментальной стороны церковной жизни вообще относится к царственному и пророческому служению Христову, к Царствию Божию и дарам Духа, и она не поддается ни описанию, ни регулированию. Этим веянием Духа особливо отмечена жизнь первенствующей Церкви, оно есть тайна первохристианства, которая не отнята и от теперешней эпохи. Ею вообще отмечены все героические времена в жизни Церкви и высшие достижения христианского духа. Пророчественность есть динамика жизни церковной, как иерархизм есть ее статика. Лишь соединение того и другого образует Una Sancta как совершающееся Богоприятие, Богочеловечество in actu. Эта жизнь не вмещается в видимую организацию церковную, но переливается за ее края. Она обращена ликом своим ко всему человечеству, которое будет судимо Христом на основании Его в нем присутствия, и даже ко всему творению, о котором сказал Господь: "Дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли" (Мф 28: 18).
Таким образом, мы подходим к заключению, что мы не можем отрицать принципиально ни иерархичности иерархии, ни сакраментальности и спасительности таинств, совершаемых вне Православия (разумеется, в разной мере в разных исповеданиях), хотя эти пути и остаются для нас сокрытыми и недостаточными. Но тем жарче должна быть наша молитва "о соединении всех" и наше его искание. Чаша Христова остается едина, хотя и разделены к ней приступающие. И "тот же" есть Дух, подающий разные дары. И что особенно замечательно, взаимное постижение наиполнее совершается чрез углубление собственной жизни церковной, ибо здесь, в этой глубине, мы встречаемся и опознаем друг друга в нашем единстве во Христе и в Духе Святом как дети единого Отца Небесного.
Однако, остается еще вопрос об единении в догматах, которое утеряно в течение веков в разных поместных церквах и отдельных общинах церковных, и здесь-то ждет нас в экуменическом движении трудная, но и наиболее плодотворная работа. Несмотря на разногласия, христианский мир и доселе сохраняет существенное единение в самых основных догматах веры, выраженных в принимаемых всеми главных исповеданиях и символах веры (Nicaenum, Apostolicum, Athanasianum). Возможно вообще с разной силой чувствовать наши согласия и разногласия, делая преимущественное ударение то на первых, то на вторых. Здесь характерно свидетельство изменяющегося словоупотребления. Если сравнительное изучение догматических учений разных исповеданий прежде называлось преимущественно "обличительным" богословием, вдохновляемым пафосом обличения или самозащиты, то теперь оно чаще получает именование символического или сравнительного богословия. Последнее воодушевляется прежде всего стремлением понять и объяснить самое возникновение разногласий и их действительный смысл и лишь в свете этого понимания обличать его слабые стороны. И делом экуменического богословия является прежде всего взаимное тончайшее понимание в целях устранения неизбежных недоразумений, а далее и действительных разногласий, которые могут быть не только просто отвергаемы, но и перерастаемы в процессе взаимного сближения. Разумеется, здесь пред Православием (впрочем, как и пред всяким исповеданием, верующим в свою правду) стоит ответственная задача -- стойкого исповедания своей веры и упования, однако не в духе надмения и исключительности, в сознании обладания привилегией непогрешительности, но в духе любви и терпения, с верой что истина превозмогает. В этом смысле мы, православные, должны верить и надеяться, что жизненная истина Православия явит свою побеждающую, ибо убеждающую, силу, не как "вероисповедание", но как универсальная правда христианства. Другие исповедания, поняв ее, обретут ее, как свою собственную веру, как то именно единое на потребу, что они искали обрести и защитить, -- хотя и средствами, не всегда соответствующими, ибо ограниченными. Догматические перегородки между христианами станут прозрачны и чрез то бессильны и бездейственны. Ибо "в доме Отца Моего обителей много" (Ин 14: 2), но все они принадлежат дому Отца. "Дары различны, но Дух один и тот же", как и Христос "вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр 13: 8).
Таков должен быть дух экуменизма -- веры и терпения в уповании и любви.
"Да будут все едино, как Ты. Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" (Ин 17: 21). Это единение не есть единство иерархической организации, что есть лишь внешнее его обнаружение, но прежде всего единство жизни, которое уже содержится в Божественном ее первоисточнике. Оно присутствует в Церкви, как божественная ее глубина и сила, и вместе является и искомым как задача исторической жизни. Эта задача является в настоящее время первоочередною, она есть оселок, на котором теперь испытывается христианское сознание и воля.